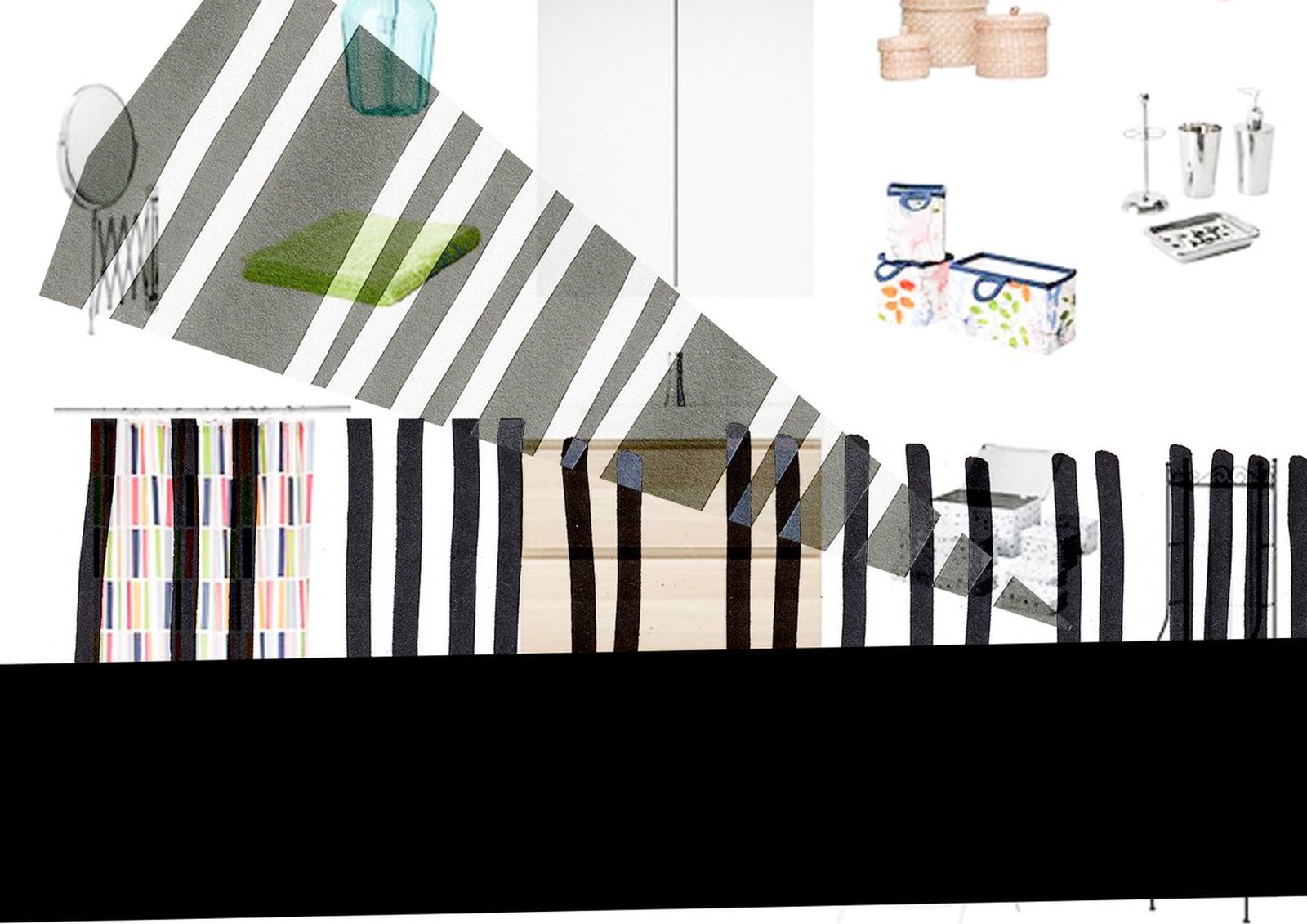Седьмой выпуск рубрики «Непрозрачные смыслы» представляет пьесу Валерия Нугатова «Крым» с вступительными комментариями Яна Выговского и Степана Кузнецова.
Валерий Нугатов
Поэт, прозаик, переводчик Валерий Нугатов, примкнувший к поколению русской поэзии 1990-х по приезде из Полтавы в 2002 году, сразу же стал ассоциироваться литературным сообществом с кругом авторов, продолжающих авангардные практики письма, что было подчеркнуто критиками в 2004 году (см. раздел антологии «Девять измерений», в котором поэт и критик Данила Давыдов представлял наиболее радикальные стратегии письма начала 2000-х в лице Ирины Шостаковской, Виктора Iванiва, Андрея Родионова и других). От расшатывания стилей в ранних верлибрах в духе Аллена Гинзберга и Чарльза Буковски «полтавского» периода, Нугатов перешел к деконструкции романтической фигуры поэта и дальнейшей игре с последней. От поэтического сборника «Фриланс», к «Fake» и «Мейнстрим» поэт целенаправленно работает с субъектом в сторону возможности такого типа социального высказывания, при котором акт дополнительной идентификации не требуется, но иронизация и сериальность социальных клише позволяют сделать это высказывание предельно открытым, тем самым проблематизируя принадлежность героя текстов и его место внутри не только новейшего литературного, но и пространства общественного (характерными примерами такого преобразования являются стихотворения «Писатели и люди», «Певцы и певицы XXI века» и др.). Затем Нугатов обращается к работе с сетевым полем, создавая «Facebook-эпопеи», которые призваны продолжаться каждым создающимся комментарием в Живом журнале под самим текстом (прагматическая сторона этой практики, «приглашающей к участию коллективное тело и коллективную экономику» тоже отмечена), а также создавая целую фигуру «Деда Хоссана», более знакомого как «дедо» / «дедужко», живущую в социальной сети «Facebook» на странице поэта под именем «Ктхулхугуру Фхтагн», через которую производится деконструкция образовавшихся лакун, заполнивших русский язык после «воровских» 1990-х, не всегда видимых и вычленяемых в повседневной речи.
В публикуемой ниже пьесе «Крым» автор впервые предстает в аплуа драматурга. Примеров обращения к драматургическим опытам среди современных поэтов не так много, но в нашем контексте необходимо назвать пьесы Кети Чухров, работающие с продолжением авангардных практик (преимущественно группы ОБЭРИУ, в большей степени Введенского) с одной стороны, и с другой поэтические пьесы Андрея Родионова и Екатерины Троепольской, обнародованные в виде отдельной книги совсем недавно и представляющие работу в том же поле, но с другой целью: вскрыть речевые нормативы социума, его склонность говорить стихотворной речью, а также проблематизацию через социальное наполнение и гротеск Родионова, нежели политизация через более сложный язык персонажей у Чухров.
В «Крыме», в отличие от обозначенных двух линий современной поэтической драмы, с персонажами происходят совсем другие преобразования и, что важно – совсем не на уровне внутренней драматургии. Уже в списке действующих лиц Нугатов-драматург заставляет вспомнить его поэтические практики, где прием изживания социальной роли использовался на протяжении целых поэтических текстов, а для рецензий на саму пьесу был организован конкурс в Живом журнале автора, в котором приняли участие поэты и литераторы, что отсылает нас все к той же работе с социальным полем и скрывающимися в нем ролями.
Известный всем полуостров, представляющий объект территориальных разногласий в течение последних трех лет, путем иронизации (свойственной всей поэтике автора) превращается в «Эру Пу» под ведомством Российской империи, что может отсылать нас к династии Мин и названию известного китайского чая Пуэр (буквально с китайского «пу ча», сокращенно «чай Пу»). Обстановка всего действия уже в подзаголовке отсылает к курортной жизни, а инквизиция предстает в лице Александра Николаевича Островского и Ивана Алексеевича Крылова (отметим, двух авторов среди действующих «великих писателей и поэтов» в ролях драматурга и баснописца), что явно отсылает уже не к политической сатире, а к самоиронии Нугатова-драматурга, примиряющего на себя гнет инквизиции, обрушившийся на хипстера Льва Николаевича Толстого.
Исследователь культуры Стивен Шавиро в работе «Вселенная вещей» очень точно описал бунт объектов, происходящих внутри одноименного рассказа Гвинет Джонс в жанре научной фантастики. Шавиро приходит к выводу, что триумф объектов из повествования Гвинет сподвигает нас к серьезному размышлению о жизненности вещей и их соотношению с нами, людьми: первые представляют собой действительный мир опыта как сами по себе, так и для вторых, а также приходит к тому, что наличие опыта присуще всем актуальным сущностям. В пьесе «Крым» главным таким объектом становится диван, привезенный четырьмя грузчиками из магазина IKEA, который не только проявляет свое неприятие «великих писателей» к себе на поверхность, постоянно разваливаясь и ломаясь, но и является той комплексной вселенной предметов, скрадывающих свое участие за языковой конструкцией самих диалогов, но таящих кое-что еще, а именно отсутствие маркера принадлежности к временному континууму и, вследствие, отсутствие политической идентификации, проявляющийся также у всех действующих лиц от самих грузчиков до фигуры глухонемого с флажками Российской Империи, предстающих своего рода тульпами внутри разыгрываемого действия.
В результате задорная пьеса Валерия Нугатова «Крым», за чтением которой вам будет легко скоротать свой вечерний отдых перед началом затяжного дня, представляет собой своего рода «Пир во время чумы», в котором Другой в лице правосудия Островского с Крыловым демонстрирует невозможность осуществления катарсиса, порождая ситуацию, когда происходит полное нивелирование действующих лиц с помощью ими же производимых средств, а очищение становится возможным путем дления вещей и торжества условности политического дискурса.
Ян Выговский
Пьеса Валерия Нугатова делает своеобразный выпад не только против ряда имеющих вес в России ценностей – «великой русской литературы», «христианства» – не только против актуальных тем, вроде внешней и внутренней политики России, консьюмеризма, социального положения мигрантов, рабочих в развивающихся странах и сексуальных меньшинств, но и против драмы самой – точнее, против некоего «нарративно-лирического комплекса», который в обыденном языке кроется за словом «драма».
Этот выпад можно представить как прием чистого трэш-искусства – «Крым» не подчиняется логике контркультурного протеста, пьесу нельзя назвать «эпатажной сатирой» (здесь нет точки совпадения персонажей с их прототипами, да и написана она не для консервативного адресата) или «играющей на контрастах» комедией. Однако Крым дает некое удовольствие от чтения, и тем интереснее понять источник этого удовольствия, то, в чем же заключается «эффект» пьесы.
Во-первых, пьеса при всех вольностях архитектоники имеет классическую структуру повествования – если не классицистическую. Все происходит в один день, в одном месте, в едином ключе, главный отрицательный герой получает от представителей справедливой власти возмездие: здесь стоит сделать предположение о параллели с классической русской комедией «Недоросль», где главная героиня также лишается имущества по некоторым формальным причинам, но де-факто из-за своей порочности. Сюжет пьесы проходит по рельсам этой конвенции, но вагоны его не заполняются ни дидактикой древних, ни элитаристскими экивоками новых, идут налегке. Толстой, естественно, не отрицательный персонаж: определенные выводы о нем можно сделать (например, обвинить в двоедушничестве, склочничестве или даже оппортунизме) и предположить причину его «наказания» (паразитическое проживание в доме инвалида), но все это теряет свой смысл в сеттинге «Крыма». Смыслообразование здесь находится на уровне опознавания бороды Толстого как атрибута хипстера-ламберсексуала, хотя практически никто из персонажей не может похвастаться подобной смычкой, разве что Достоевский, чье духовно-политическое преображение заменяется на телесно-гендерное. Впрочем, Нугатов стремится разрушить и классицистическое заключение, как кажется, вполне классицистическим методом – Божьим судом – и этим разрушителем становится террорист Иисус Христос (собственно, сам по себе главная фигура трансгрессии в европейской духовной истории). Он стреляет по маршрутизатору и все валятся на пол: смерть без причины смерти, преступление без наказания, сюжет без содержания, маски без лиц под ними – в таком поле, не побоимся этого слова, симулякров, финальная сцена выглядит как освобождение от Больших Смыслов: не обладающие языком (власти) угнетенные потребляют лишенные символического капитала продукты, совершают действия, чтобы затем совершить им обратные (раздача флажков). Впрочем, такая левацкая трактовка финала выглядит слишком наивной.
Во-вторых, некоторое напряжение тайны окутывает камерную пьесу Нугатова. Это касается как и замкнутости места действия, так и зазора между прототипическим и «реальным» (причем «реальное» также не реально – это утрированная российская действительность как второй прототип) пьесы, измерениями, спаянными произвольно (или достаточно последовательно: как контраст «идеальной» и «актуальной» стороны русского национального габитуса, что создает достаточно консервативное послание в этой пьесе) и от этого содержащими между собой пустоту, пространство потенциальных связей между первым и вторым. Собственно через эту зримую и осязаемую пустоту разрыва и летит гиперлуп рецепции.
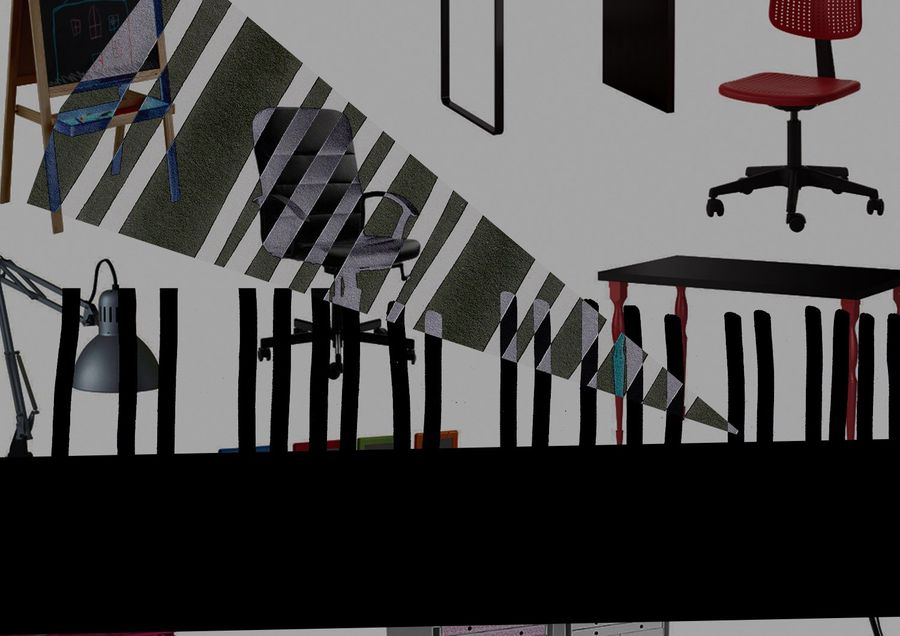
Крым
Cцены из русской курортной жизни
Действующие лица
Лев Николаевич Толстой, великий русский писатель.
Антон Павлович Чехов, великий русский писатель.
Иван Сергеевич Тургенев, великий русский писатель.
Николай Васильевич Гоголь, великий русский писатель.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, великий русский писатель.
Николай Алексеевич Некрасов, великий русский поэт.
Тарас Григорьевич Шевченко, великий украинский поэт.
Александр Сергеевич Пушкин, великий русский поэт.
Михаил Юрьевич Лермонтов, великий русский поэт.
Александр Николаевич Островский, великий русский драматург.
Иван Андреевич Крылов, великий русский баснописец.
Александр Александрович Блок, великий русский поэт.
Фёдор Михайлович Достоевский, великий русский писатель.
Иисус Христос, Господь.
Четверо грузчиков из мебельного магазина IKEA.
Глухонемой с пластиковыми флажками Российской империи.
Российская империя. Крымский полуостров. 17-й год Эры Пу.
Сцена первая
Летняя веранда роскошного загородного дома. За круглым столом сидит Лев Николаевич Толстой с густой хипстерской бородой и «хвостиком» на макушке, в больших наушниках Beats, солнцезащитных очках Ray-Ban, белой футболке GAP, голубых шортах Tommy Hilfiger и синих кроссовках New Balance c развязанными шнурками на босу ногу. Он смотрит в экран портативной электронно-вычислительной машины MacBook Air, повернутой к зрителям крышкой с полустёршейся надписью «ОБАМА ЧМО», и время от времени ковыряется в носу, почёсывает лохматую чёрную бороду или поправляет очки на носу. На столе также лежит новый смартфон iPhone 7 и стоит дорогой чайный сервиз, в одной из чашек дымится чай. В углу высится старинный комод. На дальней стене под потолком мигает зелёными огоньками маршрутизатор. Щебечут птички и стрекочут цикады.
Лев Николаевич Толстой: Снова Федька всю ленту этой своей пропагандой гомосексуализма засрал! С утра на «фейсбук » хоть не заходи – якшается со всякой антирусской швалью, понабирался этой гейропейской перхоти, сыплется уже с него эта перхоть в глаза, глаза уже слезятся от неё, горло от неё забивается, в ушах серные пробки, во рту вкус кала, в груди стеснение, в глазах темнеет, скоро судный день, скоро судный день, ангелы с хоругвями, ведьмы на метле, спасайся кто может, кто не заховался, я не виноват, и так муторно на душе становится, что хоть в петлю лезь и с башни «Федерация» в Москва-реку сигай, а ведь когда-то и Федька был парнем хоть куда, расхаживал по Тверской в красных сапожонках, звался груздём и полезал в автозак, поддерживал курс реформ и выступал за равноправие полов, а не прокрастинировал в социальных сетях! Не прокрастинировал! Не прокрастинировал! (Отпивает чай из чашки, с громким стуком ставит её обратно на стол и сплёвывает на клавиатуру.) Пропал парень ни за грош! Выгорел! Скурвился! Похудел кстати! Намедни писал из Вятки, просил денег прислать – а где я ему этих денег возьму? Я что, по-ихнему, Дональд Трамп? Так и Дональд Трамп баблом не разбрасывается – Дональд Трамп он на то и Трамп, а не трам-пам-пам, Федя! Эх, Фёдор…
Входит Антон Павлович Чехов в черной рубашке Emporio Armani, тёмно-синих драных джинсах Calvin Klein, чёрных слипонах Trussardi Jeans и красной кепке в бейсбольном стиле с российским гербом.
(снимая наушники) А, это ты, Антуан! За каким лядом тебя-то хоть сюда принесло? Отсиживался бы на своём Пхукете сраном или где ты там последний раз чекинился – хрен тебя проссышь! Ну, уж коли пришёл, скажи мне, нищенская твоя душонка, в чём разница между голограммой и голотурией? С исторической, так сказать, и геополитической точки зрения? Отвечай, подлец!
Антон Павлович Чехов переминается с ноги на ногу, а затем садится в углу веранды в позу лотоса, закрывает глаза и начинает медитировать.
Молчишь, скотина? Молчит. Нашкодит – и в кусты. Буддовости достигать! Ненавижу вашего брата-креакла: что вы пытаетесь нам всем здесь внушить или доказать? Что Земля круглая и всё-таки она вертится? Или что жопу надо после туалета вытирать? Думаете, мы без вас, интеллигентов, не знаем, куда свои причиндалы вставлять и откуда драйвера скачивать? Думаете, без вас роутер не настроим? Да мы его так настроим, что у вас на лбу рога вылезут – вот как мы его настроим! И подключим ко всемирной сети даодэдзынь и тайцзицюань! Без вашего сраного буддизма обойдёмся! Слышь, Антошка?
Антон Павлович Чехов (открывая глаза, с просветлённым видом): Тут вот ведь какая вещь, Лев Николаевич. В бытность мою титулярным советником-с хаживал я в одно заведение весьма сомнительного свойства, о чём вспоминать мне нынче хотя и совестно, но всё же в высшей степени поучительно. Я это к тому веду, что мир устроен таким парадоксальным образом, что никогда не знаешь, у кого лаптем щи хлебаешь. Всё хоть сколько-нибудь проясняется и обретает некую степень осмысленности порой лишь годы спустя, когда уже и участников тех событий днём с огнём не сыскать, да и дух-то их повыветрился, а на месте фамильного склэпа, прошу прощения, мультиплэкс какой-нибудь выстроен на сто тыщ посадочных мест, с блэкджеком и шлюхами – такая вот ирония судьбы, знаете ли. Но мы-то с вами, Лев Николаевич, обязаны воспринимать и принимать всё это со смирением, приличествующим человеку себя уважающему. Да кому я объясняю? Недосягаемому светилу интеллектуального небосклона!.. (Опускается на колени, проникновенно.) Лев Николаич, родной, всего-навсего каких-то несчастных две сотни ассигнациями – можно хоть сто восемьдесят пять, ну очень, просто вот очень надо!..
Лев Николаевич Толстой надевает наушники. Врывается Иван Сергеевич Тургенев в розовой рубашке Polo Ralph Lauren, коричневом бархатном пиджаке Brioni, светлых брюках-чинос Uniqlo в больших жирных пятнах и малиновых мокасинах Kenzo. Лев Николаевич Толстой снимает наушники.
Иван Сергеевич Тургенев (воодушевлённо, отставляя ножку): Ах, в каком фантастическом месте я вчера побывал! Просто феерическая была ночь! Фе-е-рическая!
Лев Николаевич Толстой (вскакивая и бросаясь к нему): Иван.
Иван Сергеевич Тургенев: Лев.
Лев Николаевич Толстой: Иван!
Иван Сергеевич Тургенев: Лев!
Лев Николаевич Толстой: Иван!!!
Иван Сергеевич Тургенев: Лев!!!
Лев Николаевич Толстой: Вано!
Иван Сергеевич Тургенев: Левон!
Лев Николаевич Толстой: Иванушка!
Иван Сергеевич Тургенев: Лёвушка!
Жарко и шумно лобызают друг друга. Иван Сергеевич Тургенев с разбега пускается вприсядку.
Лев Николаевич Толстой: Камаринского жарь, сволочь!
Иван Сергеевич Тургенев молодцевато и щеголевато «жарит» камаринского.
(подхватывая и целуя взасос Ивана Сергеевича Тургенева): Люблю – не могу! Ты-то, Сергеич, какими судьбами? Вот уж кого не ожидал, не чаял и не надеялся. Думал, рехнусь тут со всем этим сбродом ненасытным, с шушерой этой подзаборной. Давай, выкладывай, рассказывай, режь правду-матку, едрёна вошь, душу мне тут всю выверни наизнанку, залупи её, заразу, и вывали на стол со всеми потрохами – по-нашему, по-свойски, без этих вот интеллигентских вывертов. (Косится на Антона Павловича Чехова.) Кстати, вот, познакомься, лоботряс из молодых.
Иван Сергеевич Тургенев (игриво поводя глазками): А гоголька-то я и не приметил!
Антон Павлович Чехов встаёт с колен, подходит к Ивану Сергеевичу Тургеневу и почтительно протягивает руку, унизанную пёстрыми феньками.
Антон Павлович Чехов: Antoine Tchekhoff, дауншифтер.
Лев Николаевич Толстой (утрированно гнусавя и грассируя): Антуан де Сент-Экзюперри – даун, блядь! Херпросшифтер ты! Сказал бы сразу: лоботряс и прощелыга. Ну или мокрощёлка тайская! Зассыха балийская! Шелупонь гоанская! Ты же йог, Антошка! Йог ведь? Йог! Не гой! А йог – это звучит гордо! На кой ляд тебе деньги, эта шелуха мирская, когда ты с высшими сферами общаешься, в трансы-шмансы запросто входишь, телеграммы-гиппопотамы за подписью разных бодхисатв получаешь и паришь невозмутимым олимпийцем над юдолью скорбей, как раздувшийся чирéй, взмывая в эмпирей? Ты только представь, пока ты там в притонах Сан-Франциско давишься палёной наркотой, которая у тебя уже изо всех дыр наружу прёт, тем временем в трущобах бананово-лимонного Сингапура лиловый негр зарабатывает своей натруженной лиловой жопой сраных полдоллара на чёрствый бутерброид с канцерогенным пальмовым маслом!
Антон Павлович Чехов собирается что-то возразить, но Лев Николаевич Толстой поворачивается к Ивану Сергеевичу Тургеневу.
А ты, Ванюша, никак в Ялточку погостить ездил?
Иван Сергеевич Тургенев (застенчиво): Ну, если это можно назвать Ялточкой, Лёвушка. Двенадцать погранзастав – это тебе не два пальца об асфальт. Ведь при наличии соответствующих хэштегов напряжённость ситуации достигает сезонного максимума. И вот тогда, с высокой колокольни, как говорится, ошибок трудных уместен ввод личных данных для временной регистрации в сети ресторанов «Му-му». Но, учитывая всю глубину сибирских руд, кое-кто не устаёт прогнозировать рост ДТП на арене мировых цен на нефть. Что, конечно, внушает умеренный оптимизм, несмотря на подорожание вотсапа и голливудскую манию преследования. Каковое заявление было воспринято артистически, поскольку двадцать восемь трупов за шестнадцать минут – это уже слишком. Скажу больше, величина смещения по оси ковровых бомбардировок создаёт атмосферу разнузданного разврата посреди ангольской зимы. И это, в свою очередь, доказывает непроходимость пищевода в особо тяжёлых случаях получения взяток должностными лицами. Но, несмотря на сбои в работе сервера, южный циклон не помешал натиску следственного комитета, и заслуженная артистка родила тройню прямо на подмостках Государственного Кремлевского дворца…
Звонит домофон. Лев Николаевич Толстой подходит к двери и нажимает на кнопку. Из динамика слышится искажённый мужской голос с сильным среднеазиатским акцентом: «ИКЕЙ, доставк!»
Лев Николаевич Толстой: Окей-хоккей. (Ивану Сергеевичу Тургеневу, хвастливо.) Заказал себе в «Икее» диванчец из нового каталога, а то, после того как этот мудак Белинский зассал мой старый будденброковский, некуда вечером кости сбросить, понимаешь ли!
Четверо грузчиков из мебельного магазина «ИКЕА» аккуратно вносят детали роскошного кожаного дивана наваринского цвета с искрой.
Грузчики из магазина «ИКЕА» (нестройным хором): Ассаляму алейкум!
Лев Николаевич Толстой: Зиг хайль! Ставьте вон в том углу!
Грузчики ставят детали в углу и начинают их распаковывать. Слышатся отдалённые залпы артиллерийских орудий, затем ближние автоматные очереди и одиночная стрельба.
Да осторожней ты, хаджимурат! Паркет покоцаешь!
Один из грузчиков отвечает что-то по-киргизски. Затем все четверо, вполголоса переговариваясь, начинают собирать диван, громко стучат молотками, сверлят дрелью, пилят бензопилой и производят другие раздражающие звуки. Присутствующие вынуждены их перекрикивать.
(Ивану Сергеевичу Тургеневу) Ты, Ванёк, конечно, во многом прав, хотя кое-где, разумеется, передёргиваешь, но люблю я тебя, ясен пень, не за это! А люблю я тебя за тихую речку да за девичье сердечко, за бутылку текилы да за больничные бахилы, за долгую дорогу да за на душе тревогу, за ребятню под ногами да за бабу с рогами, за летний зной да за потанцуй со мной, за лайки с перепостами да за манду с усами, за президента Америки да за режиссёра Хомерики, за Русь святую да за козу слепую… (Грузчики с грохотом роняют спинку дивана на пол.) Из какой только жопы у вас руки-то растут, насреддины хреновы?! (Ивану Сергеевичу Тургеневу) Люблю я тебя, Ванюша всей душой, хоть ты и тварь, конечно, порядочная. Сучара ты, Иван, изрядная, вот что я тебе скажу без обиняков. Словоблуд и бот компьютерный. От тебя и таких, как ты, всё зло в этом мире. (Обводя руками вокруг.) Вся вот эта катавасия из-за тебя – вот это вот всё. Но ничего, вы ещё за всё ответите, когда вам черкесские абреки будут лобзиком бошки отпиливать и в инстаграмме фоточки посекундно выкладывать. Тогда-то и расскажете им за всё хорошее, за наши олимпийские рекорды да за блатные аккорды, за дóбычу полония да за женскую колонию, за русскую литературу да за трехмерную архитектуру, за жекэха, за вэдэнха да за изнасилованного жениха – за всё им, дьяволы, расскажете… (Невдалеке раздаётся громкий взрыв.)
Иван Сергеевич Тургенев (сдавленно хохоча и ухарски садясь на недособранный диван): Умеешь ты все-таки, Лейбушка, рассмешить! Такой матёрый талантище в этом Херсобесе зарываешь! Тогда как тебе по Карнеги-сити-холлам впору блистать – Николай Басков и рядом не валялся!..
Диван разваливается на части под Иваном Сергеевичем Тургеневым, который, тем не менее, продолжает на нём сидеть и, достав из нагрудного кармана пиджака шёлковый носовой платок Lanvin в мелкую клетку, испачканный то ли кровью, то ли розовой губной помадой, смачно сморкается.
Лев Николаевич Толстой: Куда вы спинку-то присобачили, янычары?! Право-лево не понимайт? (Поднимает отвалившуюся спинку и энергично опускает её на голову Ивану Сергеевичу Тургеневу.) Вот куды её надо было пришпандорить, муджахеды проклятущие!
Грузчики из магазина «ИКЕА» пытаются прикрутить спинку дивана к голове Ивана Сергеевича Тургенева. Слышится шум вертолёта, немного спустя на веранду приземляется с парашютом Николай Васильевич Гоголь в лётчицком шлеме, лётчицких очках, чёрной кожаной куртке Diesel, чёрных кожаных брюках Saint Laurent, чёрных ботинках Berluti, чёрных кожаных перчатках Valentino и с чёрным кожаным рюкзаком Bottega Veneta на спине. Шум вёртолета постепенно удаляется и вскоре стихает.
Николай Васильевич Гоголь (не снимая с себя парашюта, достаёт из рюкзака мегафон и кричит в него): Здорóво, мелкая буржуазия! Ну что, устраиваем мещанский быт? Свиваем гнездышко? Прячемся за домашним уютом от экзистенциального ужаса бытия? Пытаемся обмануть время и смерть? Упрочиваем власть чистогана? Эксплуатируем дармовую рабочую силу из развивающихся стран? Цинично прожигаем жизнь, оплаченную миллионами наёмных работников по всему миру?
Антон Павлович Чехов встаёт и тихонько подкрадывается к столу за спиной Льва Николаевича Толстого.
А вы, например, в курсе, что Коля Чернышевский в Лисьей бухте либертинистскую коммуну организовал? Учредил, так сказать, Эдемский сад на отдельно взятом клочке земли? Навёз туда свободомыслящей молодёжи со всех концов нашей необъятной Российской империи и торжественно открыл новую эру любви, дружбы, мира, труда, взаимоуважения и счастья! Лев Николаич, Иван Сергеич, айда вместе в Лиску – строить там новую жизнь, прообраз будущей жизни всех обитателей планеты! Вот только вертолёт с продуктами из Щебетовки вернётся и – махнём, а?
Антон Павлович Чехов незаметно берёт со стола iPhone 7 Льва Николаевича Толстого и прячет в карман джинсов, а затем бесшумно возвращается и садится на своё место под стенкой. Лев Николаевич Толстой очень недобро смотрит на Николая Васильевича Гоголя. Иван Сергеевич Тургенев с диванной спинкой на голове недоумевающе посматривает то на Николая Васильевича Гоголя, то на Льва Николаевича Толстого, а затем озадаченно цокает языком.
Лев Николаевич Толстой: Ну ты, Колян, в своем репертуаре! Да нешто ты, дуралей, полагаешь, что мы с Ванькой на нудистском пляже мудями никогда не трясли?! Да мы с ним столько этих ваших анархисточек через колено перетрахали на прокуренных казарменных раскладушках, что до сих пор, как вспомню, ажно всё нутро изжогой скручивает. Да когда ты ещё из-под стула гимназисткам румяным, от спиртяги вусмерть пьяным, под шерстяные юбки заглядывал, мы с Иван-Сергеичем такие бахчисарайские фонтаны из своих гаубиц запускали, что стены кругом рушились и стёкла в окнах лопались! И после всего этого ты надеешься в какую-то трипаково-сифонную клоаку нас с Сергеичем голыми малолетками заманить? Да знаю я этого Черныша-карапыша, знаю как облупленного – он тут уже который год под ногами путается, разбойник разбойником! Тьфу-человек, барыга героиновый! Давно уж хотелось его квартальному сдать, да руки не охота марать! Пусть покамест ещё порезвится да поскачет без трусов, а там и прихлопнем. Ну а если захочется самим трусы скинуть, так это можно без проблем сделать прямо тут, не отходя кассы, – это мы живо, n’est-ce pas, Сергеич (смеётся и подмигивает Ивану Сергеевичу Тургеневу)?
Иван Сергеевич Тургенев молча, с серьёзным видом встаёт, не спеша снимает брюки-чинос и остаётся в белых кружевных женских трусиках Victoria's Secret. Аккуратно складывает брюки на краю дивана, а затем так же чинно снимает трусики, кладёт их сверху на брюки, спокойно усаживается обратно на диван и закидывает ногу на ногу.
(с радостью и гордостью) Вот, милок, полюбуйся – чем тебе не Лисья бухта? А ты говоришь – Маркс: мол, Маркс он и в Африке Маркс. Маркс то он, конечно, может, у себя в Лондоне и Маркс. Да и в Цюрихе он, пожалуй, даже ещё Маркс. Но вот в Коктебле он уже никакой не Маркс, а цельный Мартин Хайдеггер – если только не Мартин Борман! А уж в Судаке он, не приведи Господь, вылитый Эрих Хонеккер и Эрих Мария Ремарк в одном лице! Вот что такое, Колька, твой с Чернышевским Маркс! Маркс у них в жопе, видите ли…
Николай Васильевич Гоголь (слегка растроенно): Ну тогда давайте хоть портвешку массандровского тяпнем за встречу! (Прячет мегафон в рюкзак, достаёт оттуда полуторалитровую пластиковую бутылку тёмно-бордовой жидкости, откручивает белую крышку и разливает по чайным чашкам. Раздаёт чашки всем присутствующим, включая грузчиков, и поднимает свою.) Ну что, фашня, за мировую революцию?
Лев Николаевич Толстой тут же выплёскивает содержимое своей чашки в лицо Николаю Васильевичу Гоголю. Грузчики и Николай Васильевич Гоголь залпом осушают свои чашки. Иван Сергеевич Тургенев заглядывает в свою чашку, нюхает напиток и корчит брезгливую гримасу. Николай Васильевич Гоголь берёт женские кружевные трусики Ивана Сергеевича Тургенева, вытирает ими лицо и запихивает их в нагрудный карман пиджака Ивана Сергеевича Тургенева. Слышится приближающийся шум вертолёта.
А вот и Герцен милый прилетел!
Сверху опускается верёвочная лестница, и Николай Васильевич Гоголь начинает по ней подниматься, волоча за собой парашют.
(грузчикам) Пролетарьят, мы с тобой! (Льву Николаевичу Толстому и Ивану Сергеевичу Тургеневу) Не поминайте лихом, обскуранты! (поёт фальцетом, величаво поднимаясь) U-una furti-i-iva lagrima-a-a…
Грузчики провожают его сочувственными взглядами и снова принимаются собирать развалившийся диван, на котором продолжает сидеть Иван Сергеевич Тургенев. Шум вертолёта постепенно удаляется и стихает.
Лев Николаевич Толстой: Да хватит уже мне диван курочить, салафиты кривожопые! Думаете, русский человек на рандеву в этих ваших шведских премудростях не разберётся? Ещё как разберётся! Под Полтавой разобрались – и тут как пить дать разберёмся! Нам не привыкать! Можем повторить! (Выхватывает у грузчиков из рук вторую диванную спинку и начинает отчаянно лупить их ею по спине.) Развели тут ИГИЛ какой-то! Вон отсюда! Чтоб и духу вашего ваххабитского здесь не слышно было! (Выталкивает грузчиков пинками под зад.)
Антон Павлович Чехов (подскакивая): Ну, я тоже, пожалуй, позволю себе откланяться, Лев Николаевич, а то засиделся маленько…
Лев Николаевич Толстой (выталкивая пинком под зад и Антона Павловича Чехова): И ты тоже вали отсель! У тебя, кстати, много общего с чуреками этими! Антихрист! (С треском захлопывает дверь за грузчиками и Антоном Павловичем Чеховым и облегчённо вздыхает.)
Внезапно слышится свист зенитной ракеты класса «земля-воздух», а через некоторое время – громкий взрыв.
Иван Сергеевич Тургенев: Пиздец Гогольку. Так и не долетел, болезный, до сада своего райского… Ну, царствие небесное (зажав пальцами ноздри, осушает чашку и, скривившись, отрыгивает.)
Лев Николаевич Толстой (наливая себе в чашку тёмно-бордовой жидкости из пластиковой бутылки и присаживаясь на развалившийся диван к Ивану Сергеевичу Тургеневу): Хотя по-человечески, конечно, жаль хлопца. Суетился, шумел, шухер-мухер какой-то вечно затевал – и вот на тебе, обугленные останки ходи-броди по полю подбирай и тарабань груз 200 на родину героя. (Отпивает из чашки.) А ведь я ещё помню, как он вот таким вот, два вершка-потрошка, розовым толстеньким карапузиком с мамкой по феодосийской набережной носился – весёлый, белобрысый, счастливый такой, без трусов (вот где ирония-то!), кричал что-то, картавил, писял струйкой на девочек! А какие он замки из «лего» строил – не замки, а дворцы, не дворцы, а дворцовые комплексы! Версаль, Петергоф и Мачу-Пикчу в одном флаконе!.. Это он уж потом на сутенёрстве да на работорговле поднялся… Ну, земля пухом. (Осушает чашку.) Хорошо, хоть мы с тобой, Иван, не полетели…
Иван Сергеевич Тургенев: Да у меня, Леон, ты ж знаешь, с детства аэрофобия…
В полу открывается люк, и оттуда появляется Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин в выцветшей голубой футболке Zara, хлопчатобумажных коричневых шортах Mexx, заляпанных кофе, и поношенных грязно-белых кедах Converse; с трёхдневной щетиной на лице, впалыми щеками, красными глазами и затравленным взглядом; с горящим подсвечником в руке.
Лев Николаевич Толстой: О, игроман наш на свет Божий выполз! Крот наш подвальный! Скоро у тебя, Мишка, глаза из орбит повылазят и на щеках болтаться будут, как чёртики йо-йо! Во что ты там цельными сутками рубишься, как бешеный? В GTA али в 2048? Кстати, не слыхал, новый Fallout вышел?
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин: Кофей есть?
Лев Николаевич Толстой (показывая пластиковую бутылку с остатками тёмно-бордовой жидкости на дне): Могём угостить нектаром таврических богов – покойный Санёк Герцен из Щебетовки как раз подогнал.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин: Не, эту жужу я больше пить не буду. (Растерянно озираясь, ставит подсвечник на стол.) Хватит с меня вчерашнего…
Лев Николаевич Толстой (с причмокиванием допивая из горлышка остатки жидкости): Ну и зря. Чайку можешь налить себе, хоть он уже и остыл. А в холодильнике ещё «кока» початая запотевшая стоит.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин выходит, сглатывая слюну, и вскоре возвращается с открытой литровой пластиковой бутылкой Coca Cola. Жадно пьёт из горлышка. Немного придя в чувства, осматривается и впервые замечает разваленный диван, на котором сидят Лев Николаевич Толстой и Иван Сергеевич Тургенев.
Лев Николаевич Толстой: Чё встал, как пень? Иди к нам, Гоголька новопреставленного сам-три помянём.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (сморгнув, с загоревшимся вдруг взглядом, постепенно воодушевляясь): Дорогой, многоуважаемый шведский диван, сработанный на потогонной фабрике в джунглях Бангладеш! Приветствую тебя, о ёмкий и красноречивый символ современной Руси – так же, как ты, недособранной, да ещё и разваленной неумелыми руками нерадивых и малообразованных трудовых мигрантов и поставленной на колени мировым империализмом. Сейчас на тебя взгромоздились сатанинские клещи, кровососы и паразиты, но скоро ты восстанешь ядерным грибом, как Феликс из пеплума, и озаришь нетленным светом силы и правды своей весь Божий мир!
Лев Николаевич Толстой: Эк тебя «кока»-то впёрла, Мишутка! С места в карьер поэтом закукарекал! А ведь ты, Евграфыч, потомственный крепостник и живоглот! Сколько ты людей безвинных на барщине-то сгноил, а? Сколько народу непосильным оброком извёл? Сколько в газенвагенах перетравил? Сколько на опыты да на органы переработал? Сколько в подвалах Лубянки расстрелял? Сколько на столбах перевешал? Сколько в печах крематориев живьём истребил, душегуб? Ведь у тебя сколько раньше душ-то было? Не помнишь? А я помню! Пять сотен душ у тебя было. А сколько из них осталось, после того как ты тьму тьмущую живого товара на консоли с плейстейшнами всякими выменял да в GTA своё сраное проиграл? Запамятовал? Короткая у вас, сударь, память! А у меня-то она пока ещё исправно фунциклирует – с гулькин хер у тебя душ осталось, да и те скоро концы отдадут! Недаром тебя прозвали в народе Мишкой «Мертвые уши». Не Щедриным тебя надо было, мерзавца, окрестить, а Сквалыгиным – вот твоя идеальная фамилия: Стервецов-Сквалыгин!
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин: Хорош трындеть, Николаич. Я и так вас, дармоедов, давно тут терплю. Да и то – потому как скучно одному бобылём сидеть. Хочется, видишь ли, развлечениев каких-никаких – хоть вас, шутов гороховых, послушать, посмеяться над тем, какие вы дебилы-с. Вот и устроил КВН-двенадцать стульев на дому, бо «Комеди франсез» не потяну. (Грозно.) Но если начнёте тут бузить и чересчур много на себя брать – мигом с моей дачки вылетите, причём с треском, и будете потом на паперти в Балаклаве вместе с Фетом да Рылеевым побираться! Де-ка-ден-ти-ки! (Сплёвывает.)
Лев Николаевич Толстой и Иван Сергеевич Тургенев сидят, потупившись.
Лев Николаевич Толстой и Иван Сергеевич Тургенев (поют дуэтом): Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная, Видно, хоч голки збирай…
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин подходит к дивану и брезгливо поднимает кончиками пальцев брюки-чинос Ивана Сергеевича Тургенева.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин: С какого трупа ты эти штаны содрал, Иван?
Иван Сергеевич Тургенев: Так ведь тринадцать погранзастав, вашбродие…
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин подходит к старинному комоду, роётся в нем, находит серые слаксы Moncler и приносит Ивану Сергеевичу Тургеневу.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин: На вот, не позорься. Только не в моём доме…
Иван Сергеевич Тургенев: Так ведь углеводородные выбросы они, того-с, активизируют деятельность определённых участков мозга гориллы, не востребованных в случаях непредвиденного простоя техники, вызванных необратимыми изменениями условий труда, сложившимися в результате методичного и целенаправленного…
Михаил Евграфовч Салтыков-Щедрин (перебивая): Все в курсе, натягивай давай.
Иван Сергеевич Тургенев встаёт, стыдливо прикрывая одной рукой пах, берёт другой слаксы и, повернувшись боком к Михаилу Евграфовичу Салтыкову-Щедрину и задом к публике, торопливо и сконфуженно надевает брюки.
Что-то жрать охота. Кто в «макдак» сгоняет?
Лев Николаевич Толстой и Иван Сергеевич Тургенев растерянно переглядываются.
Лев Николаевич Толстой (робко): Может, Органчика припахать?
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин: Военно-истерического? Да мне пох, кого вы там припахивать будете… В общем, так: «роял де люкс», «филе-о-фиш» и большую картоху фри. А, «капучину» ещё. Свистнешь в «скайп», Ливан, когда принесут.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин берёт со стола подсвечник, открывает люк в полу и начинает потихоньку спускаться в погреб.
(Поёт басом)
Боже, Царя храни!
Сильный, державный,
Царствуй на славу, на славу нам!
Царствуй на страх врагам,
Царь православный!
Боже, Царя храни!..
(Захлопывает за собой люк.)
Лев Николаевич Толстой (почёсывая бороду): Что-то Мишутка последнее время часто заговариваться стал.
Иван Сергеевич Тургенев: Говна многовато жрёт.
Лев Николаевич Толстой (с грустью): Так не от хорошей ведь жизни…
Иван Сергеевич Тургенев: А кому легко-c?
Лев Николаевич Толстой встаёт с дивана, подходит к стенке и громко стучит в неё кулаком.
Лев Николаевич Толстой (кричит): Алексейч! Алексе-ич!
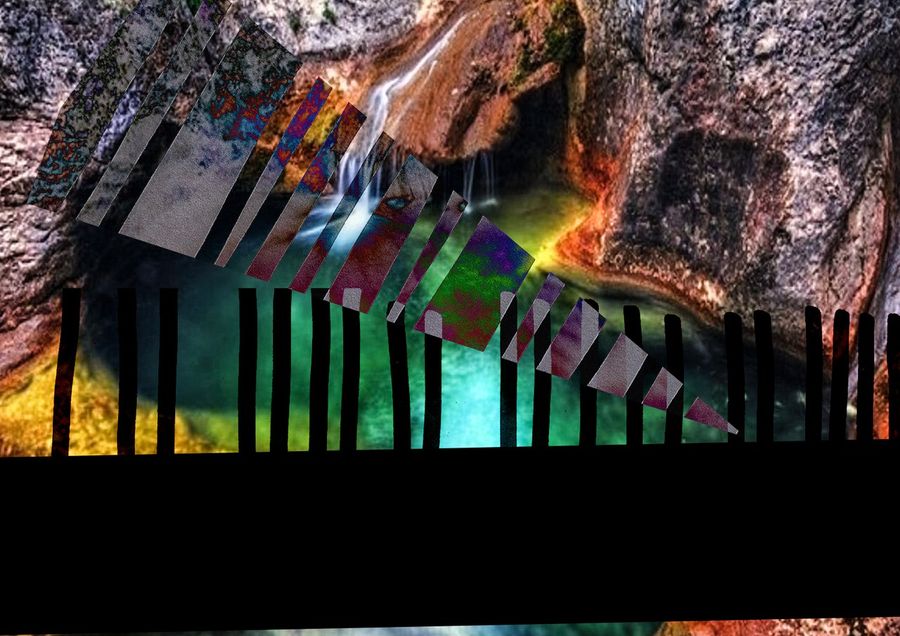
Через минуту открывается дверь и медленно въезжает в инвалидном кресле безногий Николай Алексеевич Некрасов в жёлтой толстовке Gant, тёмно-синих джинсах Baldessarini, обмотанных вокруг культей и пожелтевших в промежности, в протёртых бежевых шерстяных варежках и круглых ободранных очках с тёмно-зёлеными стёклами.
Николай Алексеевич Некрасов (отрывисто): В штыковую… В кольцо… Раненых… В плен… Не брать… Звенит… Музыка… Боевая… Так точно… Отставить… На плацу… Не хочешь… Заставим… Труби… Зарю… Рота… Подъём… Гренадёры… На гауптвахту… По целям… Противника… Огонь… Уланы… В атаку… Кровавый… Бой… Кони… Люди… В обход… Ни шагу… Назад… Ни пяди… Не отдадим… Шагом… Марш… Шпицрутены… Взводный… Так точно… На абордаж… Не отступать… Гуськом… В рукопашную… По-пластунски… Картечь… Ура… Гусары… Шпоры… Цельсь… На редут… Смирно… Отставить… Очередью… Егеря… На изготовку… Вольно… Але… Оп… В укрытие… В наступление… Равняйсь… Бей… Врага… Потери… Огонь… Дым… Смяли… Оборону… Руби… Коли… Режь… Осада… Блокада… Прорыв… Галопом… Круши…
Лев Николаевич Толстой: Слышь, Лексеич, духота какая. Ты бы проветрился, а?
Николай Алексеевич Некрасов: Дави… Гадину… Танки… Бомбы…
Лев Николаевич Толстой: Перемирие, Лексеич. Брейк. Белый флаг. (Выдёргивает кружевные трусики из нагрудного кармана пиджака Ивана Сергеевича Тургенева и машет ими над головой.) Капитулирен! Гитлер капут!
Николай Алексеевич Некрасов: Свиньёй… Напролом… Гвардейцы…
Лев Николаевич Толстой: Ты хоть кормишь гвардейцев-то своих, Лексеич? Голодом ведь заморишь, людоед!
Николай Алексеевич Некрасов: Ура-а!.. За царя!.. За отечество!.. Урра-а-а!..
Иван Сергеевич Тургенев: Может, проще по интернету, Лёвушка, заказать?
Лев Николаевич Толстой (вытирая лоб и щёки кружевным трусиками Ивана Сергеевича Тургенева): Да вот и я тоже, Хуанитушка, подумываю: может, Семёнычу набрать? Он мужик степенный, безотказный. О процветании государства печётся. Благотворительностью занят – церебральщиков, олигофренов там всяко-разных благодетельствует. Фонды-шмонды. Налаженные каналы. Рынки сбыта. Теневые схемы усыновления. Трансплантация органов опять же. Нужна тебе легальная эвтаназия для богатого дяди честных правил? Мигом организует! Золотой души человек. Всегда готов оказать посильную помощь. Уж он-то нам не откажет! Как думаешь, Жанно? Я вот думаю, надо попробовать. Чем чёрт не шутит? Вот только дальнофона своего что-то сыскать не могу… Сергейч, дальнофона-то моего не видал? Не дай Бог нехристи эти скоммуниздили! Слышь, Ваниссимо (кричит в отчаянии), седьмой айфон суки нерусские спиздили!!! Ничего святого!!! (Переходит на истерику.) Я ж цельный год на него копил: недоедал, ночей недосыпал, как ишак вкалывал, вагоны разгружал, в хлебе насущном себе отказывал – только бы оставаться на высоте положения! Только бы не в грязь траншейную лицом! И вот жизненный итог – разорён, опозорен, опущен, отпида-ра-шен! (Засунув в рот кружевные трусики, рвёт на себе волосы и катается по полу.)
Иван Сергеевич Тургенев: Да не убивайся ты так, Колич, а то прям сердце в клочья разрывается, на тебя глядя. Хочешь, «самсунг» свой старый отдам? (Роется в карманах пиджака, достаёт пачку презервативов Playboy, смятые американские доллары и электронную сигарету.) Ёшкин же ты кот! Вестимо, на финляндско-молдаванской границе где-то в болоте посеял!
Лев Николаевич Толстой (стучит головой об пол, разбивая очки): За что, Господи, за что!?
Николай Алексеевич Некрасов: Арьергард… На амбразуру… Пли…
Лев Николаевич Толстой бьётся в припадке падучей. Иван Сергеевич Тургенев заботливо вставляет ему между зубов электронную сигарету.
Под трибунал…
Входит унтер-офицер Тарас Григорьевич Шевченко в серой куртке-бомбер Alexander McQueen, белых шерстяных брюках HUGO BOSS, голубых замшевых ботинках Tod’s и армейской фуражке. Под мышкой он держит огромный арбуз.
Тарас Григорьевич Шевченко: Ну, у вас тут полный расколбас, ребзя! А я вам гостинца привёз – вы, чай, в Крыму своём давно уж настоящих арбузов не едали. Из самого Краснодара на перекладных пёр, пришлось даже переплатить за отдельное место – уж очень хотелось побаловать вас, направить, как говорится, тёплый лучик южного солнца в ваше бесплодное царство. Даже поражаюсь порою, как вы тут все ещё не повымерли да не повымерзли, не спились с круга да не пошли по рукам. Где ж это видано, чтобы в этаких нечеловеческих условиях сохранять человеческое достоинство, надежду и веру в завтрашнюю зарю? (Закрывает крышку портативной ЭВМ MacBook Air, стоящей на столе, и с треском ставит на неё сверху арбуз.) Вставай, Лев Николаич, и садись жрать настоящий кубанский арбузище! И ты, Иван Сергеич, иди жрать! Да и Николай-Алексеичу ещё перепадёт – тут, ей-богу, на всех хватит! (Достаёт из-за пазухи огромный мясницкий тесак и начинает разрубать арбуз на большие шматки.) Да ты аромат понюхай! (Тычет арбузной долькой в нос лежащему на полу Льву Николаевичу Толстому.) Да за такой аромат отца родного продать можно, а то и убить! (Чавкая, ест арбуз.) Медовая симфония! Иван Сергеич, чего застыл-то соляным столбом? Милости просим к столу-с. (Выплёвывает семечки на пол.)
Иван Сергеевич Тургенев подходит к столу, берёт арбузную дольку и нехотя откусывает.
Иван Сергеевич Тургенев: Это ты идеально хорошо, Григорич, придумал. В самую точку, можно сказать, попал! Я вот тут давеча сидел с Феденькой Тютчевым на кухоньке нашей уютненькой – ну знаешь, в потёмках, под бомбежкой – и сам себя спрашивал: вот ты, Ваня, говорю, всего достиг, всё познал, весь мир почитай у ног твоих, так вот, чего бы тебе в эту самую минуту больше всего на свете хотелось? Только по-чесноку отвечай! Так вот, признаюсь, я как на духу сам себе и ответил: хотелось бы мне, чтобы унтер-офицер Шевченко припёр на своем горбу огроменный краснодарский арбуз и мы бы все вместе его взяли да со всей требушиною сожрали! Вот каково моё желание было! И тут же, между прочим, на соседний дом бомба рухнула…
Тарас Григорьевич Шевченко радостно смеётся.
Тарас Григорьевич, не в службу, а в дружбу – в «Макдоналдс» не сгоняешь? (Протягивает 20 американских долларов.) Турецкие-то все до последнего тугрика на румынской таможне выгребли…
Николай Алексеевич Некрасов: Рать… В каре… Пулемёты…
Снова слышатся отдалённые залпы.
Тарас Григорьевич Шевченко (ревниво косясь на доллары): А знаешь ли ты, Иван Сергеич, какие у нас в монгольской степи ковыли произрастают? Да ты таких гигантских ковылей сроду не видывал! (Показывает.) Под трёхэтажный дом ковыли! Мчишься, бывалоча, на своём вороном, шашкой помахивая, и ковыли эти направо и налево исправно штабелями укладываешь. Вот где красота-то! Вам, крымчакам, не понять всего этого наслаждения и великолепия – вас ведь уже по самое горло, по уши по самые колючей проволокой оплели и изолентой обмотали, вот вы чуть что и суёте доллары эти свои… (Резко выдёргивает у Ивана Сергеевича Тургенева деньги.) Но счастья и здоровья душевного вы на них, дурошлёпы, не купите, потому как покой и счастье – они там, (мечтательно) в ковылях-с!
Лев Николаевич Толстой (негромким, дребезжащим голосом): Изуверы…
Тарас Григорьевич Шевченко: Вот и Лев Николаич, если что, не даст соврать.
Невдалеке разрывается фугасный снаряд.
(Пряча деньги в карман куртки и сдвигая фуражку на затылок.) Да вы бы хоть диван, что ли, собрали, право-слово! А то глядеть больно – энтропия повсюду пышным цветом цветёт. (Подбирает с пола молоток и гвозди и начинает деловито, хотя и криво прибивать спинку с обратной стороны дивана.)
Лев Николаевич Толстой медленно встает и ковыляет к столу, садится на стул, надевает наушники и смотрит на распотрошенный арбуз, стоящий на закрытой портативной ЭВМ MacBook Air. Глаза Льва Николаевича Толстого наливаются злостью, и он резко открывает крышку ЭВМ, сбрасывая остатки арбуза на пол.
Николай Алексеевич Некрасов: Напалм… Газы… Окопы…
Входят в обнимку Александр Сергеевич Пушкин в красной майке Adidas, коротких белых шортах Lacoste и кедах Keddo и Михаил Юрьевич Лермонтов с голым торсом, в голубой панаме Stutterheim, защитных бермудах Puma и чёрно-салатовых сланцах Nike.
Александр Сергеевич Пушкин: Всё, что нам нужно, родные, это любовь! Знаю, звучит банально, но – самая что ни на есть правда. Я это только теперь понял, когда Мишу встретил (с нежностью смотрит на Михаила Юрьевича Лермонтова.) Показы, тачки, яхты, кокаин, светские рауты, виндсерфинг на Карибах, свингерские гей-вечеринки – всё это, конечно, классно, кто бы спорил, но когда встречаешь настоящую любовь, на тебя внезапно словно озарение какое нисходит и вдруг со всей ясностью осознаёшь, что всё это – пустое: не стóит оно затрачиваемых сил и кипучего молодого здоровья, ох не стóит! Скажи, Мишенька! (Помогает губами Михаилу Юрьевичу Лермонтову, когда тот говорит.)
Михаил Юрьевич Лермонтов (мерзко ухмыляясь): Не, ну а чё, любовь – это крутяк. Хотя банджи-джампинг – тоже ничё так…
Лев Николаевич Толстой (вдруг отрываясь от экрана ЭВМ, Александру Сергеевичу Пушкину): Седин бы своих лобковых, Сергеич, постыдился!
Александр Сергеевич Пушкин (распаляясь): Мне, Николаич, стыдиться нечего! Любовь – святое чувство. Это вам не гаджет какой-нибудь, за который ты готов мать родную на шаурму перекрутить. И не тебе, цинику прожжённому, меня стыдить! Скажи, Миша…
Михаил Юрьевич Лермонтов: Да чё… это… Шаурма… говно-с, конечно… Я её столько в юнкерские годы пережрал… Лучше уж бургер-с перехватить… это…
Иван Сергеевич Тургенев (вдруг спохватываясь): Кстати, о бургерах, Тарас Григорьевич…
Тарас Григорьевич Шевченко продолжает сколачивать диван, не обращая внимания на происходящее. Иван Сергеевич Тургенев безнадёжно взмахивает рукой.
Лев Николаевич Толстой: А я ведь знал, Сашка, что этим у тебя всё закончится. Еще когда ты в 90-х на Невском лохов разводил, у тебя в глазах уже всё было написано. И потом, когда вы на пару с Дельвигом тот подпольный бордель для садистов в Царском селе открыли, – уже тогда всё было с тобой ясно. Всю твою подноготную порочную натуру я ещё тогда разглядел, так что можешь не заливать теперь про высокие чувства и прочую мудотень. Увольте, сударь, сыты по самое не хочу вашею неуёмною казуистикой! Одного только я понять не могу – зачем тебе, пидарасу старому, вздумалось осквернять бессовестным и безоглядным развратом сие почтенное, старинное, покойное жилище?!
Александр Сергеевич Пушкин (с чувством): Да ваше лицемерие напускное вот уж где у меня сидит! (Страстно целует в губы Михаила Юрьевича Лермонтова. Лев Николаевич Толстой с отвращением сплёвывает на клавиатуру.) Вот вам! И ещё! (Хватает Михаила Юрьевича Лермонтова за задницу, прижимает к себе и снова целует взасос).
Лев Николаевич Толстой (закрывая рукой глаза) Экий фейспалм, батюшки-светы!
Александр Сергеевич Пушкин (торжествующе окидывая взглядом присутствующих, с гордостью): Ну что, саддукеи, довольны?
Тарас Григорьевич Шевченко, низко наклоняясь над диваном, громко выпускает кишечные газы.
On y va, mon petit Michel, присядем вот туточки. (Грубо отпихивает Тараса Григорьевича Шевченко, увлекает за собой Михаила Юрьевича Лермонтова и с разбега плюхается вместе с ним на недособранный диван. Тот разваливается под ними в очередной раз. Михаил Юрьевич Лермонтов идиотски ржёт. Вскоре Александр Сергеевич Пушкин тоже начинает нервно хихикать.)
А ведь мы… (Давится смехом.) Ведь мы пока ещё… Пока только просто сели!
Входит глухонемой с пластиковыми чёрно-жёлто-белыми флажками Российской империи, раздаёт их всем присутствующим и торопливо выходит в противоположную дверь. Тарас Григорьевич Шевченко надвигает фуражку на лоб, чешет затылок и удручённо смотрит на разваленный диван.
Тарас Григорьевич Шевченко: Энтропия-с, господа, как и было сказано…
Александр Сергеевич Пушкин ложится на диван и увлекает за собой Михаила Юрьевича Лермонтова. С флажками в руках они начинают тискать друг друга и целоваться, периодически прыская со смеху.
Николай Алексеевич Некрасов (выезжая на середину сцены и размахивая флажком): Ать-два… Стройсь… Навались…
Открывается люк в полу, и на сцену поднимается Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Тарас Григорьевич Шевченко бросается его обнимать.
Тарас Григорьевич Шевченко (с облегчением): Ну хоть одно лица необщее выраженье в этой непрерывной Гоморре! Здравствуй, Михайло!
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин грубо отталкивает его, поднимает с пола арбузную дольку и с жадностью ест. Гремят взрывы.
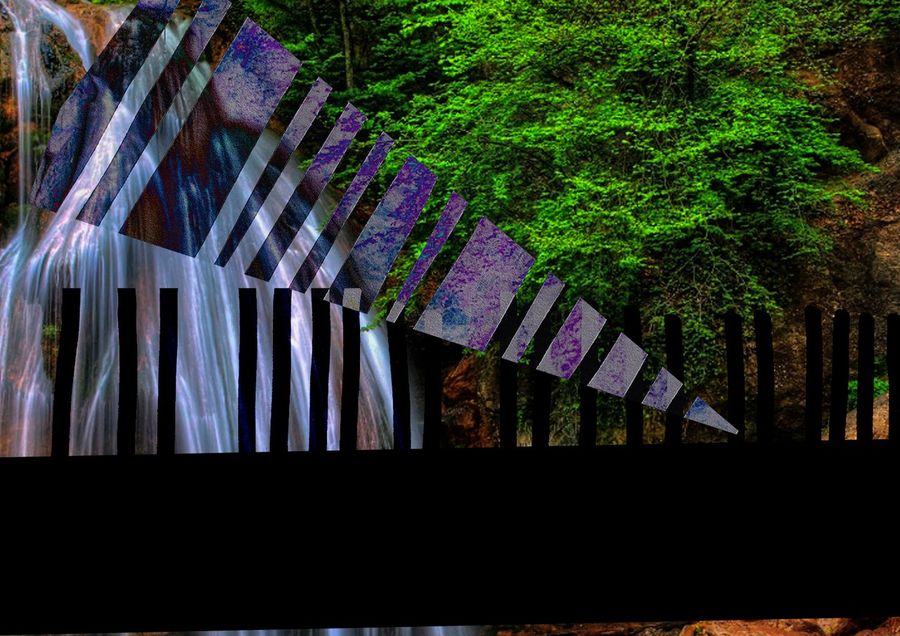
Входят с властным видом Александр Николаевич Островский в соболиной шубе в пол, серых шерстяных брюках Dolce & Gabbana, тёмно-коричневых кожаных туфлях Ermenegildo Zegna и меховой шапке, а вслед за ним – Иван Андреевич Крылов в чёрной джинсовой косухе Givenchy, белой футболке Moschino, тёмно-синих зауженных джинсах Dsquared2 и клетчатых кроссовках Desigual.
Александр Николаевич Островский (злорадно сверкая глазами): Ну что, господа мошеннички, проворовались-таки? (Через плечо Ивану Андреевичу Крылову) Зачитывай, Ваньк! Чего кота за хвост тянуть-то?
Иван Андреевич Крылов (надевает пенсне, достаёт из-за пазухи мятый лист бумаги и, многозначительно окая, читает по складам): «Сего года сего месяца 16 числа мы, нижеподписавшиеся, председатель Гурзуфского сельсовета Островский Александр Николаевич, члены комиссии: Крылов Иван Андреевич, Грибоедов Александр Сергеевич, Толстой Алексей Константинович, Гончаров Иван Александрович и Чехов Антон Павлович, на основании постановления президиума Ливадийского райисполкома, постановлений собраний бедноты, колхозников и заседания сельсовета произвели конфискацию имущества, принадлежащего лишенцу Некрасову Николаю Алексеевичу, причём конфисковано следующее имущество: загородный дом с мезонином и верандой общей площадью 95 квадратных метров с приусадебным участком площадью 10 соток – 845 рублей…
Лев Николаевич Толстой (перебивая и бросаясь к ногам Александра Николаевича Островского): Без ножа зарезал, отец родной! У меня ж детки малые в Евпатории остались! По миру ведь пойдут! (Рыдая и целуя туфли Александра Николаевича Островского). Не губи-и-и!...
Александр Николаевич Островский (отдёргивая ногу, невозмутимо): Поздно пить боржоми, Лео, раньше надо было о детишках-то радеть.
Иван Андреевич Крылов (продолжая монотонно читать): …столов простых 4 шутки, 67 рублей, кроватей 3 штуки, стульев 7 штук, шкафов 2 штуки, 103 рубля, пшеницы простой 34 пуда, 36 рублей 15 копеек, овса 4 с половиной пуда, 22 рубля 60 копеек, картофеля полпуда, 5 рублей 50 копеек…
Лев Николаевич Толстой: Живодёры! Мироеды!
Николай Алексеевич Некрасов: Мародёры… Кру-гом… От-ставить…
Иван Андреевич Крылов: …лошадей рабочих 1 голова, 20 рублей, жеребят годовых 1 голова, 11 рублей, коров больших 2 головы, 25 рублей, швейная машинка, 1 штука, 35 рублей, маслобойка, 1 штука, 1 рубль 50 копеек, самовар никелированный, 1 штука, 15 рублей…
Тарас Григорьевич Шевченко: Вот тебе, бабушка, и Покров день. Вот тебе и День народного единства…
Снова входит глухонемой, отбирает у всех флажки и выходит в ту же дверь, в которую вошёл изначально.
Вот тебе и поезд «Воркута-Ленинград»…
Иван Андреевич Крылов: …хомутов полный комплект 1 штука, 8 рублей, кадок водовозных 1 штука, 1 рубль, граммофон с прибором, 1 штука, 40 рублей, печек железных 1 штука, 2 рубля 50 копеек, рукомойка, 1 штука, 25 рублей…
Александр Николаевич Островский (блаженно): Как бальзам на душу! (Укоризненно.) Ты бы, Лёвушка, чайку хоть плеснул нам с дорожки фронтовой, а то как неродной прям! Умаялись, небось, мы с Андреичем по большаку-то трястись – чай, из самой Керчи без остановок по ухабам пиздюхали!..
Лев Николаевич Толстой (сквозь зубы): Христопродавцы…
Тарас Григорьевич Шевченко: Вот тебе и газопровод «Уренгой-Помары-Ужгород»…
Иван Андреевич Крылов: …перина перовая, 1 штука, 13 рублей, подушек перовых 2 штуки, 9 рублей, тулупчик заячий, 1 штука, 25 рублей, балалайка старая, 1 штука, 1 рубль 60 копеек, пластинок граммофонных 28 штук, 14 рублей 50 копеек, ларь с мукой, 1 штука, 2 рубля 30 копеек, баков цинковых, 1 штука, 1 рубль 40 копеек, сито, 1 штука, 20 копеек…
Александр Николаевич Островский (наливает в чашку холодного чая и, осторожно переступая через арбузные дольки, направляется к дивану, на котором лежат и милуются Александр Сергеевич Пушкин и Михаил Юрьевич Лермонтов): А этих-то охальников на кой позвали? Тьфу, сукины дети! (Садится на диван, грубо отодвигая задом Александра Сергеевича Пушкина и Михаила Юрьевича Лермонтова. Ивану Андреевичу Крылову) Диван ещё, Ваньк, не забудь вписать!
Иван Андреевич Крылов (взглядывая поверх пенсне на диван и прикидывая в уме цену):…разваленный импортный диван из магазина IKEA, 35 рублей… значится, продолжаем-с… тазов медных 2 штуки, 2 рубля 50 копеек, ломов 1 штука, 1 рубль, обручей железных 2 штуки, 50 копеек, музыкальный ящик, 1 штука, 50 рублей, бумаг разных 2 ящика, 50 копеек, жаровен чугунных 2 штуки, 1 рубль 40 копеек, корзин из шерсти 2 штуки, 50 копеек…
Лев Николаевич Толстой: Банда переделкинская! У инвалидов войны и труда дачки отжимать…
Николай Алексеевич Некрасов: В лазарет… В расход…
Тарас Григорьевич Шевченко: Во-во, Лексеич, готовый «севастопольский рассказ»!
Иван Сергеевич Тургенев презрительно фыркает, дуя в высунутый язык.
Александр Николаевич Островский (отхлёбывая чай): И как эту мерзость пить можно? Нешто на приличных чаёв денег нетути?
Иван Андреевич Крылов: … сала неполного 3 фунта, 1 рубль 50 копеек, топоров 2 штуки, 2 рубля 40 копеек, гирь чугунных 8 штук, 1 рубль 20 копеек, гирь медных 5 штук, 25 копеек, весов столовых 1 штука, 50 копеек, лопаш колёсный, 1 штука, 1 рубль 5 копеек, гвоздодёр, 1 штука, 35 копеек, кадок деревянных 5 штук, 2 рубля 50 копеек, сковородок чугунных 3 штуки, 1 рубль 5 копеек…
Лев Николаевич Толстой: Шаромыжники…
Тарас Григорьевич Шевченко (ударяя себя по лбу и доставая из кармана штанов ворованный iPhone 7): Дурья башка! Совсем запамятовал, Лев Николаич: подделку твою китаёзовскую на симферопольском базаре у Антоши Чехонте за 5 долларов выторговал…
Лев Николаевич Толстой (выхватывая смартфон, потрясённо): Как у Антошки? Ну и где он сейчас, мерзавец? Никак в Бадене, за рулеткой?!
Иван Андреевич Крылов: …чайник эмалированный, 1 штука, 80 копеек, котелок чугунный, 1 штука, 50 копеек, принадлежностей для сбруи 1 ящик, 2 рубля…
Тарас Григорьевич Шевченко: Да знамо где! В Улан-Уде – скребёт муде да играет на елде.
Лев Николаевич Толстой (спохватываясь, Ивану Сергеевичу Тургеневу): Слышь, Ванюта, так это я ведь теперь Семёнычу могу набрать – у него же в третьем отделении тьма знакомств… (Лихорадочно пролистывает список контактов.) Так, где он тут у меня… Вот, господин Лесков-с…
Александр Николаевич Островский: Да не парься ты, Леонтий! Симку тебе всё равно уже заблокировали. (Ухмыляясь.) Да и Семёнычу твоему светит каторга с полным казённым довольствием – ну если только не виселица. Солженицына, что ль, не чёл? Прочти – полезно. (Ивану Андреевичу Крылову) Дальнофон, кстати, тож прибавь...
Иван Андреевич Крылов: …дальнофон китайский, 1 штука, 10 рублев-с… серпов 3 штуки, 45 копеек, подков новых 1 штука, 50 копеек, ваз сахарных, 10 штук, 1 рубль, тарелок разных 15 штук, 3 рубля, чугунов разных 7 штук, 3 рубля 50 копеек, желез разного старого лома 5 штук, молотков разных 2 штуки, 30 копеек…
Лев Николаевич Толстой (кричит в отчаянии): Анафема!.. Стервятники!
Александр Николаевич Островский: Я тебя умоляю, Леоназм! Сам ведь шакал, каких поискать…
Иван Андреевич Крылов: …пил поперечных 1 штука, 2 рубля, половиков 6 штук, седёлок старых 3 штуки, 45 копеек, завозня, два амбара и баня, 200 рублей, надворные постройки, 50 рублей, всего на сумму… (Плюсует в уме.) 1706 рублев 95 копеек. О чём составлен настоящий акт в двух экземплярах для представления райисполкому и в сельсовет на предмет учёта распределения конфискованного имущества в соответствии с постановлением Ливадийского райисполкома. Председатель сельсовета: подпись. Члены комиссии: подписи».
Александр Николаевич Островский: Умри, Андреич, лучше не скажешь! Век бы тебя слушал! Ну а если по-простому, выметайтесь отсель, шантрапа. Двадцать четыре часа у вас на всё про всё, и – крышка.
Входит чернокожий Александр Александрович Блок в шерстяном клетчатом костюме Burberry, хлопковой сорочке Balenciaga, шёлковом галстуке Pal Zileri и замшевых домашних туфлях Homers At Home. На плече у него висит гитара.
Александр Александрович Блок: Чё смурные-то такие? (Тарасу Григорьевичу Шевченко) Давненько мы с тобой, Тарасик, дуэтом не певали – пожалуй что с самой позапрошлогоднишней «Грушинки». Тряхнём напоследок стариной? Как в народе гуторят: помирать – так с музыкой!
Тарас Григорьевич Шевченко и Александр Александрович Блок выходят на авансцену и принимают артистические позы. Александр Александрович Блок играет на гитаре, и оба поют на два голоса..
Тарас Григорьевич Шевченко (поёт лирическим тенором одновременно с Александром Александровичем Блоком):
Это было у моря, где ажурная пена,
Где встречается редко городской экипаж...
Королева играла – в башне замка – Шопена,
И, внимая Шопену, полюбил её паж.
Александр Александрович Блок (поёт драматическим баритоном одновременно с Тарасом Григорьевичем Шевченко):
Это было весною, зеленеющим маем,
Когда тундра проснулась, развернулась ковром.
Мы бежали с тобою, замочив вертухая,
Мы бежали из зоны, покати нас шаром.
Александр Александрович Блок бьёт по струнам в заключительном аккорде, выхватывает из внутреннего кармана пиджака паспорт, размашистым жестом раскрывает его и, подняв над головой, с гордостью всем демонстрирует.
Все, кроме Николая Алексеевича Некрасова: Что!? Что там?
Александр Александрович Блок (самодовольно осклабившись): Виза сомалийская, господа, что же ещё?
Все, кроме Николая Алексеевича Некрасова, потрясённо выдыхают.
Пять ночей у посольства на лютом морозе караулил! Даже яйца свои шоколадные отморозил… (Мечтательно.) Ну, это ничего – в Могадишо таперича на годы вперёд отогрею!
Входит Фёдор Михайлович Достоевский в шёлковом вечернем платье со стразами Oscar de la Renta, атласных туфлях Gianvito Rossi, шарфе Hermès, браслете и серьгах Swarovski и макияже Chanel.
Федор Михайлович Достоевский (восторженно): Вот уж воистину – с корабля на бал! А я тут с Омского гей-прайда как раз возвращалась и решила мимолётом к старым друзьям на огонёк заглянуть, перетереть за гуманизм и права человека и общечеловеческие ценности, а тут, смотрю, демократический процесс полным разгаром идет! (Добродушно смеётся.) Омичи весьма достойно принимали – хлебом-солью накормили, каравай вынесли, долу поклонились, исполать и многая лета спели, квасом да брагой так напоили, что насилу до своего президентского люкса доползла! Ох и насмеялись, навеселились мы с ребятушками на благословенной омской земле! В буквальном смысле слова – душу отвели. Знаешь ли ты, Лев Николаич, что нет на земле людей душевнее, нежели омичи? Ты ведь в курсе, я полсвета исколесила – мне есть с чем сравнивать. Это вы тут в Крымляндии своей мракобесной протухли уж насквозь, а ведь там, за этой вашей колючей проволокой, за этими вашими минными полями настоящая, всамделишная жизнь кипит, бурлит и всеми цветами радуги переливается! Потому как Крым ваш – морок. Об этом я и собираюсь поговорить на предстоящем международном форуме в столице свободного мира – Эр-Рияде.
Все молчат.
Николай Алексеевич Некрасов: Снаряды… Подкрепление… Огонь…
Фёдор Михайлович Достоевский садится на край стола.
Фёдор Михайлович Достоевский: Я вам одно могу сказать, дорогие мои: идиосинкразический выбор России – вот наша задача. Много я думала над судьбами отечества нашего многострадального, крутила-вертела и так и этак, вычисляла да прогнозировала и пришла к неопровержимому выводу: России – быть. Но вот какой быть Россиюшке нашей – это большой вопрос, и отвечать на него каждому след в одиночку, сообразуясь с голосом своей совести и пред лицем Господа. Так я нефтяным шейхам этим и скажу, а если надо, то и больше скажу. Потому как доколе нам это иго иноземное терпеть? Пора наконец воспрянуть ото сна и оковы тяжкие сбросить. Да и всё остальное, мелочи эти, не мешало бы сбросить – остаться, так сказать, au naturel. Чтобы весь мир увидел, какие мы есть на самом деле, в естественном своем виде, без прикрас и всей этой мишуры мирской, – увидел и ужаснулся! Поэтому я и пришла к решению привести свою половую принадлежность, тэкскэть, в соответствие со своей гендерной идентичностью. Гормональная терапия уже началась, да и хирургическая коррекция не за горами… В общем, зовите меня, товарищи, впредь Феодорой Михайловной…
Все, кроме Николая Алексеевича Некрасова, Александра Сергеевича Пушкина и Михаила Юрьевича Лермонтова, ахают от неожиданности.
Лев Николаевич Толстой (с чувством): Горе, горе-то какое!..
За сценой слышатся гулкие Шаги Командора. Свет гаснет, и все в страхе застывают.
Входит Иисус Христос в одежде исламского боевика, в чёрной балаклаве и белом венчике из роз, с золотым крестом на груди и автоматом Калашникова на плече. Быстро окидывает взглядом всю веранду, замечает на дальней стене под потолком мигающий маршрутизатор и прицеливается.
Иисус Христос: Аллаху акбар!
Иисус Христос стреляет автоматной очередью по маршрутизатору. Мигающие огоньки гаснут.
Все, кроме Иисуса Христа (хором): Ich sterbe…
Все, кроме Иисуса Христа, валятся на пол.
Занавес.
Сцена вторая
Веранда того же загородного дома. Вся мебель убрана. На полу сидят четверо грузчиков из магазина IKEA и едят «Батон нарезной», отрывая куски руками, запивают питьевым йогуртом «Чудо» и негромко, по-домашнему беседуют по-киргизски. Из валяющегося неподалёку смартфона iPhone 7 с разбитым экраном доносится ритмичная среднеазиатская музыка. Щебечут птички и стрекочут цикады.
Входит глухонемой, раздаёт всем грузчикам пластиковые чёрно-жёлто-белые флажки Российской империи и торопливо выходит в противоположную дверь.
Занавес.
Москва, 2016 г.
Автор иллюстраций – Ольга Машинец.