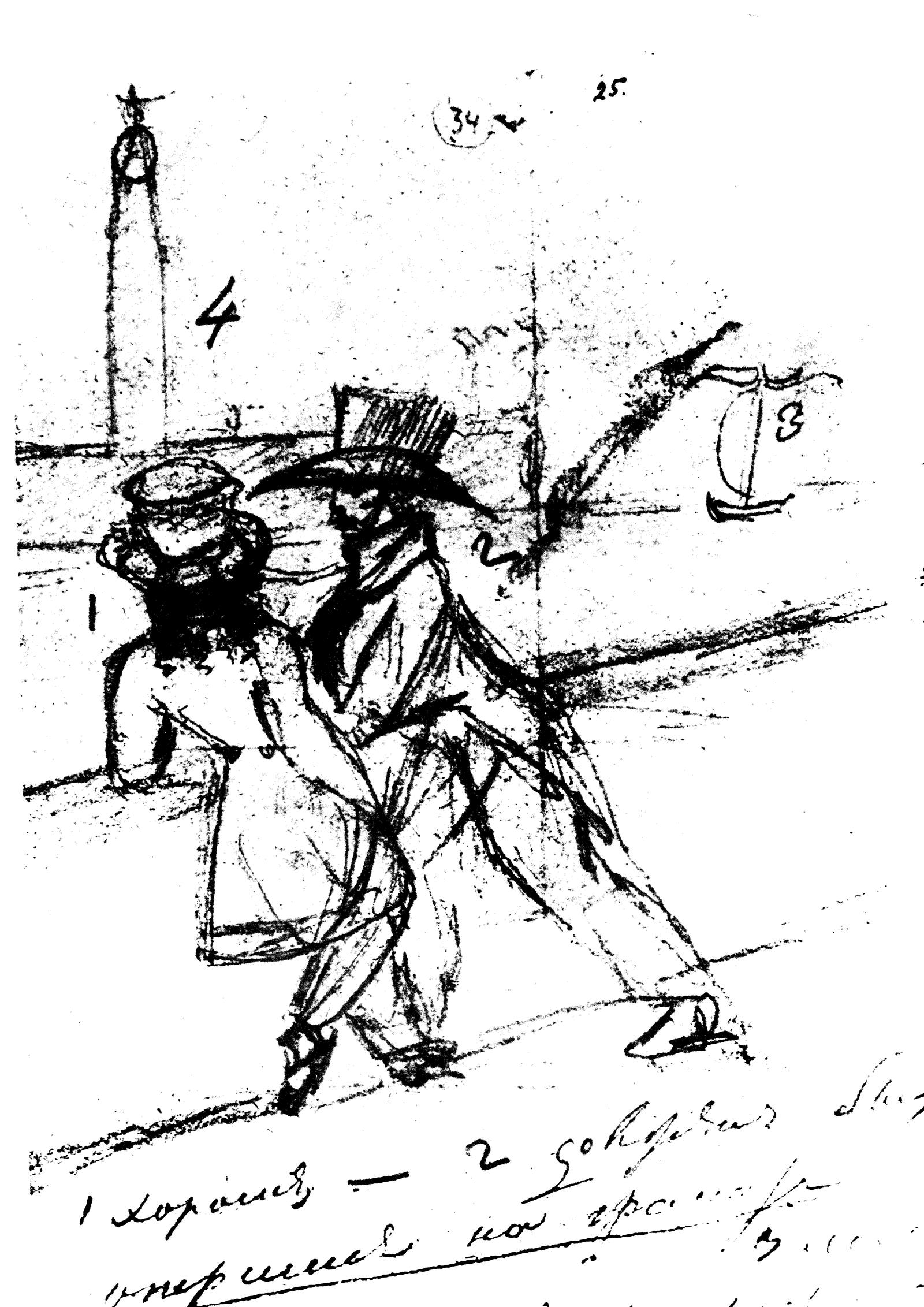Пришло время двухсотлетних юбилеев пушкинских произведений. Нынче выпал срок финалу Лицея и началу самостоятельной жизни поэта. Невдалеке – юбилеи пушкинских шедевров. Это ж сколько за двести лет о них понаписано! И вроде всё решено? Оказывается – нет.
Проблема замечалась. Например: «“Евгений Онегин” так хорошо изучен, что трудно высказать какое-нибудь суждение или сделать наблюдение, которое кем-то не было уже сделано и высказано». Одна из вполне возможных попыток преодолеть обозначенное положение – расширение подходов к популярным произведениям. В.Я. Бахмутский, автор приведенной сентенции, попробовал взглянуть на пушкинское творение сквозь призму поэтики постмодернизма (что-то увиделось, чему-то придано новое, непушкинское значение). Попытки выйти за грань привычного предпринимались и ранее. «Более столетия пушкинский роман прочитывали на фоне исторического времени, сопоставляя с различными планами внехудожественной реальности. Затем, уже на наших глазах, возобладал структурный подход, и предметом исследовательского интереса сделался поэтический мир “Евгения Онегина” в его внутренней завершенности. Теперь, видимо, настало время прочесть роман на фоне универсальности, sub specie aeternitatis (под знаком вечности)» . Попыткам такого рода суждено продолжение. А как быть с проблемами, «хорошо изученными»? Только выбирать те толкования, которые нравятся? А если что-то начато, а не договорено? А если продвижению какой-то концепции мешает ей противодействующая? А если какое-то мнение утвердилось не потому, что хорошо мотивировано, а лишь потому, что часто повторяется и стало привычным, да и поддержано людьми авторитетными?
Я рискну обратиться к некоторым простым и, прямо сказать, «заезженным» вопросам…
Поэт с героем – или против него?
Как ни странно, понимание отношений поэта и героя определили умозрительные рассуждения. С самого начала поэт предстал не анонимным (условным) художником-сочинителем, а лицом биографическим, автором ставшей знаменитой поэмы «Руслан и Людмила», приступившим к написанию нового произведения в Кишиневе (продолженном в Одессе), поскольку кто-то счел Север для него «вредным». (Но и тут: активна концепция, что образ Автора – иногда и пишется как имя собственное – «не тождествен» Пушкину, а обобщен, хотя и с использованием его биографических данных. Только любой образ художественного произведения, даже создаваемого на строгой биографической основе, не может быть «тождествен» живому человеку. В «формах жизни» мы живем, художественные образы в какой-то степени им подобны, но повторить их просто не способны.) Но признание автобиографической основы образа автора может приводить к умозрительно создаваемой иерархии в отношениях автора и героя. Ну как же! С одной стороны – гениальный поэт-новатор (да еще и пострадавший за вольнолюбивые стихи). А с другой – в чем-то и незаурядный, но в общем-то обычный светский человек, ищущий, да вроде и не находящий смысл жизни. Тогда рождается желание увидеть решение немудреной педагогической задачи: автор, отечески (ли?) выговаривает герою за изъяны его поведения. Вот только при этом куда девается заявленная симпатия автора к такому недотепе? Об этот камешек споткнулись даже выдающиеся пушкинисты.
Решительное возражение вызывает статья Ю.М. Лотмана «К эволюции построения характеров в романе “Евгений Онегин”». Сквозная задача автора – доказать намерение Пушкина «осудить» своего героя. В первой главе, утверждает исследователь, «герой, оцененный с декабристских позиций <?>, был осужден за неспособность “в просвещении стать с веком наравне”». Правда, продолжает он, в черновом (только ли в черновом?) варианте второй главы «интеллектуальное превосходство явно на стороне скептика» . Но некий аванс герою выдан случайно и ненадолго. Оказывается, Пушкин увлекся идеей народности. «Если при “интеллектуальном” критерии образ героя-скептика мог предстать в поэтическом ореоле, то применение этической оценки неизбежно вело к его разоблачению» (с. 150). Для полного триумфа над героем оказывается мало «этической оценки» и «стихийного непроизвольного чувства» Татьяны. «Для того чтобы выступить в качестве судьи героя <а для чего это ей непременно надо?>, Татьяна должна <!> теперь стать в интеллектуальном отношении на один уровень с автором, она должна <!> “разгадать” Онегина, т.е. в умственном отношении возвыситься над ним» (с. 160). Понять подобную логику невозможно. Добро бы Татьяна прочитала какие-нибудь особо умные книги, недоступные онегинскому пониманию, а то лишь познакомилась с частицей книг из обычного круга чтения Онегина, куда более широкого, т.е. отчасти приблизилась к образу его мыслей, – нет, утверждает исследователь, возвысилась над ним, стала «в интеллектуальном отношении на один <!> уровень с автором <?>», который, как известно, в просвещении с веком наравне. Так реальные факты подминаются необходимостью выстраивания заданной концепции.
В финале романа, по Ю.М. Лотману, происходит еще одна «эволюция» Пушкина: от идеи народности к принципу историзма. Эта проблема объективна, но в статье она снимается оговорками: «Историзм... оформился в творчестве Пушкина не ранее 1830 года» (с. 154), а «в 1828–1829 годах идея закономерности исторического процесса не вылилась еще в творчестве Пушкина в подлинный историзм» (с. 158). Отказывая Пушкину, в период завершения его работы над «Онегиным», в историзме, по крайней мере – в «подлинном», Ю.М. Лотман использует разговор на эту тему как повод обозначить еще один рубеж атаки на героя: «В “Евгении Онегине” сочетание принципа историзма с еще не изжитым <?> нравственно-психологическим построением образа позволило превратить Татьяну в судью <?>, выносящую вместе с автором <?> приговор герою» (с. 179).
Пушкину приписывается отношение к герою прямо противоположное тому, которое высказывает он сам. Ибо герой романа и представлен-то программно: «Онегин, добрый мой приятель...» Эта строка появилась сразу же, в черновой рукописи (вариант: «Онегин, близкий мой приятель»; различие только стилистическое, по смыслу же эпитеты одноплановы). Пренебрегать этим прямым выражением дружелюбия автора к герою нет никаких оснований.
Авторская симпатия к герою, объявленная в первой главе («Мне нравились его черты...»), нигде не прерывается. Онегин выделен во второй главе («Сноснее многих был Евгений...»). В четвертой главе поэт удостоверяет, что Онегин «не в первый раз» являет «души прямое благородство». Шестую главу, где Онегин совершает самый тяжкий свой проступок, став невольным убийцей друга, Пушкин заканчивает признанием: «я сердечно / Люблю героя моего...» И седьмая глава заканчивается возвращением мыслью к заглавному герою; при этом пародируется зачин классицистской поэмы, но сам-то Онегин здесь назван точно так, как и в реальном введении в повествование: «добрый мой приятель» – «Пою приятеля младого...» В публикуемых «Отрывках из путешествия Онегина» упоминается, что на крымской земле, подарившей вдохновение поэту, «Онегин вспомнил обо мне» и поспешил в Одессу. В черновой рукописи сохранилось описание встречи: «Как громко ахнули друзья / И как обрадовался я!» А в восьмой главе, перед тем, как «дорисовать» Онегина, поэт решительно выступает против тех, кто «неблагосклонно» отзывается о нем. Даже за грубоватой дружеской фамильярностью поэт прячет трогательное сочувствие: «Он так привык теряться в этом, / Что чуть с ума не своротил / Или не сделался поэтом…» (здесь и далее полужирным шрифтом выделено мною – прим. авт.). Таким образом, говорить об «осуждении» Онегина поэтом приходится лишь с нарушением авторской воли, пренебрегая прямым пушкинским запретом.
Конечно же, герой не идеален, и отношение к нему не однозначно. Взять хотя бы эпизод, когда Онегин дает согласие на дуэль:
...Евгений
Наедине с своей душой
Был недоволен сам собой.
И поделом...
Авторское «поделом» звучит строго, осуждающе. Однако автор лишь солидарен с героем, который сам призывает себя «на тайный суд» и «обвиняет» себя «во многом»: герой и сам – совестливый человек. При этом (очень важном) условии автору нет надобности усердствовать в осуждении героя: он и не судит, а любит его (что и подтверждает прямым словом в концовке шестой главы).
Но ведь и Татьяна не судит, а любит!
Впрочем, как и не судить: ведь между героями в финале конфликтные отношения. Вот не что иное, как суд – в совершенно конкретном моменте «отповеди» героини:
И нынче – боже! – стынет кровь,
Как только вспомню взгляд холодный
И эту проповедь...
Какой напор чувств, хотя прошло не менее четырех лет и многое кардинально переменилось! «Стынет кровь» – шутка ли! Можно ли представить осуждение более категоричное?
Но промелькнула секундная пауза – и ожесточение Татьяны тает без следа. Тон смягчается, и, продолжаясь, монолог приходит к эмоциональной точке, едва ли не противоположной той, от которой начался:
Но вас
Я не виню: в тот страшный час
Вы поступили благородно.
Вы были правы предо мной:
Я благодарна всей душой…
«Осудительные» нотки и еще мелькнут в монологе Татьяны («Что ж ныне / Меня преследуете вы?»; «А нынче! что к моим ногам / Вас привело? какая малость!») – все с тем же результатом: последующим смягчением – сетованием на собственную неосторожность и финальным признанием: «Я вас люблю (к чему лукавить?)...»
Вот и еще пример «осудительного» настроения, переданного в авторском изложении:
Она должна в нем ненавидеть
Убийцу брата своего;
Поэт погиб... но <!> уж его
Никто не помнит...
Вновь можно убедиться: роль «судьи» предполагает определенное амплуа исполнителя; Татьяна по натуре своей, примечательной прежде всего мягкостью и любовью, решительно не подходит для этой роли.
Последний пример особенно показателен еще в одном отношении. Здесь Татьяна действует не по велению своего сердца, к чему она привыкла, а подчиняется неким установлениям («должна» ненавидеть; вовсе не потому, что «хочется» ненавидеть). Эпизод действительно замечателен: он показывает, что сознанию Татьяны доступна ситуация, когда человек действует не по натуре, а функционально. Это тем более важно отметить, что, представляя Татьяну «судьей» Онегина, пушкинисты и имеют в виду не натуру героини, а ее функциональную роль в системе образов романа. Однако одно нельзя противопоставлять другому. Верная супруга и добродетельная мать – это ведь тоже функциональная роль Татьяны, но она выбрана добровольно и не противоречит голосу натуры; только по этой причине такая роль и реальна, и реализована. Роль «судьи» навязана Татьяне интерпретаторами совершенно произвольно, при полном игнорировании натуры героини.
Нельзя пройти мимо еще одного существенного обстоятельства. Представляя Татьяну «судьей» Онегина, исследователи как будто возвышают героиню, видят в ней положительную параллель отрицательному герою. На деле же они, не замечая этого, компрометируют героиню. Если в глазах Татьяны Онегин – надменный бес, ничтожный призрак, чужих причуд истолкованье, пародия, тогда естественным было бы осуждение героя и отречение от него. Но за что же тогда Татьяна продолжает любить Онегина? Неужели только по сентенции, что любовь зла – полюбишь и козла? В такой тупик загнали сами себя пушкинисты-обличители.
У Пушкина Онегин – незаурядная личность, и это чувствует и понимает Татьяна, именно поэтому она и любит его. Что при всем том она временами и сердится на Онегина – это так естественно. Но она действительно любит – и умеет прощать. Концепция суда над Онегиным отнюдь не сдана в архив, сохраняет популярность, обнаруживает тенденцию к периодическому возобновлению. В данном вопросе я категоричен: идея «суда» над Онегиным (в любой иной форме, кроме суда его собственной совести) – идея произвольная, субъективистская, научно не состоятельная, концептуально бесплодная: в ней нет рационального зерна, чтобы можно было сохранить его, очистив от наслоений. Среди всех разнообразных концепций образа Онегина идея «суда» над ним – единственная, заслуживающая отвержения в целом, поскольку против нее вопиет пушкинский текст.
Ничуть не лучше крен в противоположную сторону. Г.П. Макогоненко строит концепцию в такой логике: если Пушкин – вольнолюбец, то он и друга-героя ведет за собой. Исследователь выделяет в первой главе такие исторические имена: «Каверин и Чаадаев – это имена-сигналы: оба они члены Союза благоденствия. Таким образом, связывая Онегина с людьми новых убеждений, Пушкин делает важное историческое общественное уточнение понятия среды» . Как такой же сигнал исследователь трактовал имя Пушкина. Только над таким толкованием зависает скептический вопрос: знал ли такие подробности о своих исторических знакомых не только герой поэта, но и сам поэт?
О вольнолюбии Онегина можно судить без домыслов, по факту. Объявившись в деревне, он, не мешкая, ярем «барщины старинной / Оброком легким заменил». «Опаснейший чудак», решили про него соседи.
В советские годы и о писателях, и о литературных героях было принято судить по максимуму: членство в декабристских союзах почиталось высшим рубежом политической зрелости. В погоне за максимумом недооценивался реальный минимум. На каторгу было отправлено 120 «друзей, братьев, товарищей» (Пушкин). Околодекабристская среда была много шире, включая людей очень значительных – Пушкин, Грибоедов, «декабрист без декабря» Вяземский…
Были желающие видеть и Онегина на Сенатской площади. Любопытство не порок, гадание не противопоказано, но оно и не обязательно. Онегин на деле принадлежит околодекабристской среде, притом это тип массовидный, и в том его значение: в какую сторону он качнется, зависит успех движения.
Политический аспект важен в повествовании Пушкина, но в романе в стихах он выполняет роль обертонов; главный интерес поэта – психологический. Связанная с образом Онегина нравственно-этическая тема как бы заключена между двумя полюсами. Один полюс – в словах Татьяны, касающихся и Онегина: «А счастье было так возможно, / Так близко!..» Другой – в авторском суждении (в черновиках восьмой главы): «Все ставки жизни проиграл». Но первый остается призрачным, а второй реален. Нереализованная возможность счастья окрашивает финал судьбы Онегина.
В заключительной серии прощаний одно из главных – прощание с героями, и они не разделены, а объединены одной формой: «Прости ж и ты... и ты…» Но обозначены герои по-разному: «спутник странный» – «верный идеал». Получается: в сложном и многомерном пространстве романа герои выведены на одну плоскость, но положение Татьяны – выше. И как всегда – все не просто.
Не к идеальной героине, но к странному герою в последний раз адресуется поэт. Онегин, каким он изображен в романе, неизменно дорог и близок поэту. Он представлен вначале в тонах сочувственного комизма, но уходит он со страниц повествования героем драматического и даже трагического плана. Давайте перечитаем последние строки восьмой главы:
Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочел ее романа
И вдруг умел расстаться с ним,
Как я с Онегиным моим.
Имя героя оставлено в последней строке: одно это значит так много; но вдумаемся в смысл текста: прощание с героем для Пушкина равноценно самому главному прощанию – с праздником Жизни! Можно ли представить себе более высокое и благородное расставание с приятелем? Закону дружбы Пушкин верен всегда, – и дрогнул от волненья голос поэта, когда имя героя произносится – в черновике перед характерным росчерком, означающим окончание, в печатном тексте перед словом «Конец».