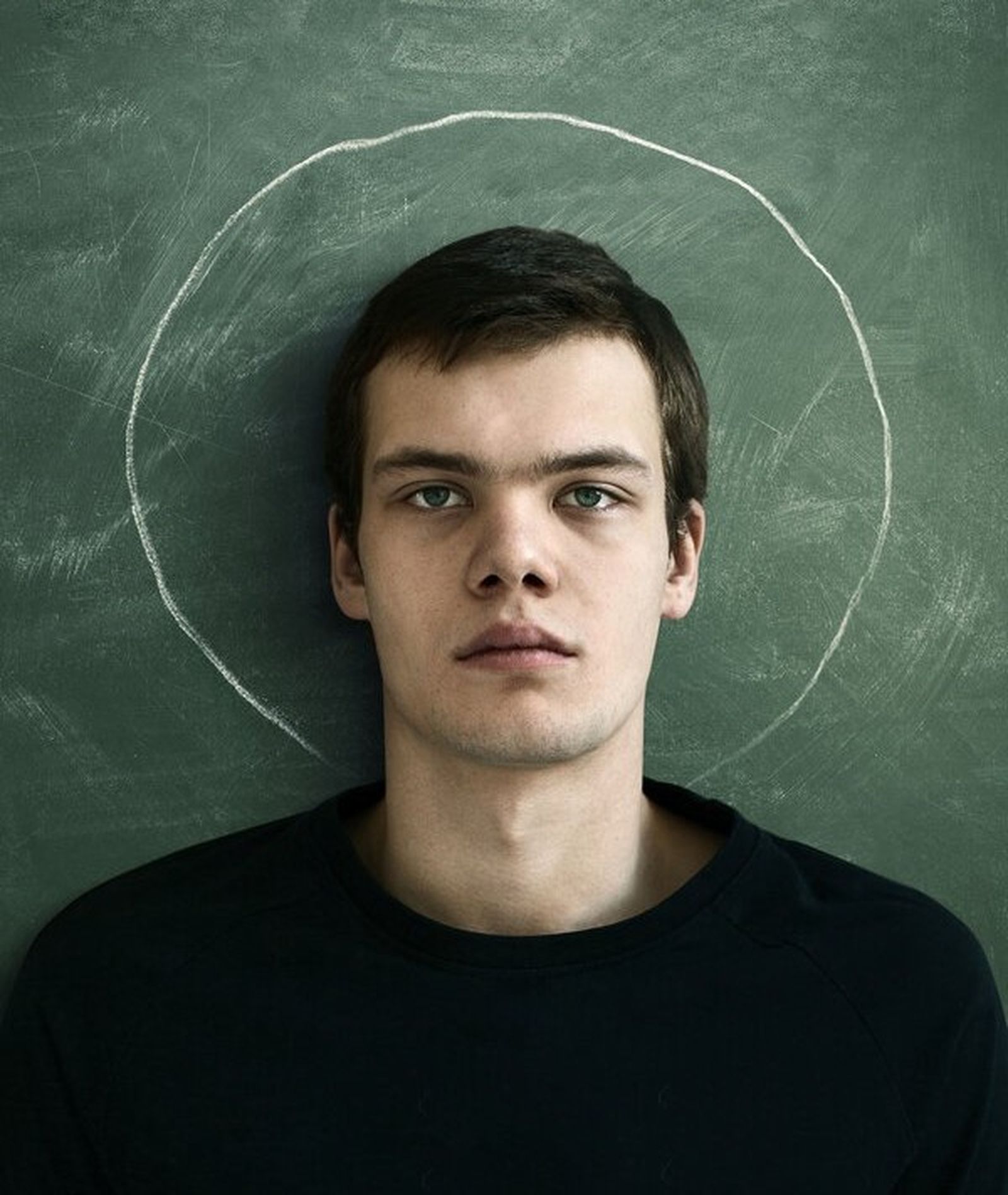«Ученик», один из наиболее резонансных фильмов Кирилла Серебренникова и лауреат «Особого взгляда», отмечает пятилетний юбилей. В основу сюжета разошедшегося на видеомемы фильма легла немецкая пьеса Мариуса фон Майенбурга «Мученик» — пройдя путь от спектакля в «Гоголь-центре» до киноэкранизации, она стала подлинно русской историей.
В лонгриде о концептуальной эволюции заглавия, обострении исторического дискурса и трансформации национального культурного кода в фильме Серебренникова драматург Костя Сиденко рассказывает, почему немецкий директор Батцлер стал в российской адаптации женщиной, для чего пиво в картине заменили на вино, чем разнятся религиозные мотивы немецкой пьесы и российского фильма и почему «Мученик» теряет первую букву и остается просто «Учеником».
«Это происходит у нас. С нами»
Мариус фон Майенбург, автор пьесы «Мученик», на родине, в берлинском «Шаубюне», в 2012 году выступил также как режиссер собственной пьесы. «В Германии эта постановка не смотрится столь остро, как у нас. Для них это притча про то, что будет, если некий клерикально настроенный „мальчик“ придет и всем укажет, — так комментирует Кирилл Серебренников работу немецкого драматурга, тут же указывая на желание представить свою версию пьесы в России, — это же все происходит у нас. С нами». Уже в 2014-м спектакль был поставлен на сцене «Гоголь-центра» под грамматически усовершенствованным заглавием «(М)ученик», а в 2016 году состоялась премьера фильма «Ученик».
Автор «(М)ученика», а затем «Ученика», предлагает российскому зрителю адаптированную версию немецкой пьесы — все события перемещаются «к нам» и происходят «с нами», т. е. приближаются к российской действительности. Такую трансформацию можно сравнить с процессом русификации — ассимиляции национальных групп в пользу титульной русской культуры. В данном случае происходит русификация текста — утрата исходного (немецкого) культурного кода, заложенного в пьесе, и приобретение нового (российского). Смена культурного контекста в немалой степени меняет характеристики персонажей, структуру их взаимоотношений, конфликт и в конечном итоге — проблематику и идею художественного высказывания вообще.
Одно слова — два слова — одно слово
Грамматическое, пунктуационное явление, когда знак препинания вносится в скобки в лингвистике называют факультативным знаком препинания, поэтому в связи с преобразованным заголовком в театральной постановке Серебренникова, внесением «М» в скобки, стоит говорить о факультативной букве. Это значит, что заголовок может рассматриваться вариативно: и как «Мученик», и как «Ученик». Что же касается оригинального заголовка Майенбурга, первая буква в нем никак не выделена, а также, что интереснее, выделена быть не может: в немецком языке не существует слова или корня без этой начальной «М». Такое сложившееся созвучие в переводе, которое стало удачным материалом для художественной игры, хорошо тем более потому, что полностью отвечает сюжету пьесы.
Некоторое внимание стоит уделить буквальному переводу заголовка — «Мученик». Дело в том, что даже понятие «märtyrer» не полностью соответствует русскому «мученик». Все авторитетные немецкие толковые словари останавливаются на следующих лексических значениях полисеманта «märtyrer». Во-первых, это религиозное толкование: тот, кто подвергает себя гонениям, телесным страданиям, смерти ради христианской веры (или веры вообще). Во-вторых, социально-политическое: человек, жертвующий собой ради убеждений (идеи).
Русские толковые словари не так единодушны, но самое широкое толкование представлено в «Толковом словаре русского языка» под редакцией Ушакова — там дается три определения. Среди двух аналогичных немецким значениям есть еще одно с пометой «разг.»: «2. Человек с тяжелой жизненной судьбой, терпящий много мучений, лишений. Прожил всю жизнь настоящим мучеником». Таким образом, заголовок приобретает дополнительное бытовое значение и становится легко применим не только к главному герою, но также и: к калеке Грише (Георгу), испытывающему издевательства одноклассников и неразделенную любовь к Вениамину (Беньямину), к учительнице биологии Елене Львовне (Эрике Рот), возможность преподавательской деятельности которой ставится под угрозу, к матери Вениамина Инге Южиной (Инге Зюдель), совершенно не понимающей, что происходит с её сыном, и прочим.

Вариант без «М» — «Ученик» — сообщает заголовку уже абсолютно новое оригинальное содержание. Русские словари не имеют особенных отличий в толковании этого понятия. Определения «ученика» в «Малом академическом словаре русского языка» таковы: 1) Учащийся начального или среднего учебного заведения; 2) Тот, кто обучается какой-л. профессии у кого-л., проходит профессиональную выучку где-л.; 3) Последователь чьих-л. общественных, научных и т. п. взглядов, учения, деятельности. То есть все значения так или иначе связаны с проблемой обучения и познания.
В фильме Серебренников предлагает однозначное заглавие — «Ученик». Вероятно, режиссерское решение в данном случае заключалось в концентрации внимания не на персональных проблемах, а на отношениях персонажей — обучающихся и обучающих: Вениамина и Бога (в виде идей, изложенных в Библии), Вениамина и учительницы биологии, Гриши и Вениамина. Таким образом, сохраняется уже единственно социальное звучание произведения в том смысле, что особенное место имеет межличностный конфликт.
С другой стороны, если история про мученика (исходя из семантики слова) — это история о конце, страданиях, смерти ради чего-то духовного, то история об ученике — уже история о начале, о становлении на духовный путь. В связи прежде всего с возрастом персонажа, его незрелостью, особенно остро звучит финал: уже не видно никакого Вениамина-проповедника, он больше не разговаривает цитатами из Библии, он — типичный подросток, который любыми жестокими и низменными способами, обманом и клеветой, пытается победить в своей «борьбе» с учительницей.
География — это история и культура
Итак, действие переносится из Германии в Россию. Герои в фильме предстают русскими людьми со своей культурной спецификой и особенностями развития. Они говорят о русском и по-русски, исходя из русского прошлого и настоящего.
Первое, чем отличается одна страна от другой — это, конечно же, историческое прошлое. Так, темы, обсуждаемые на уроках истории, изменяются Серебренниковым на актуальные для России: вместо индустриализации в связи с промышленной революцией в Англии («Джеймса Уатта, паровой машины и так далее»), заданной учителем Дёрфлингером, российский учитель говорит о советской индустриализации. И если в словах немецкого педагога слышится лишь попытка добиться от ученика-проповедника ответа на вопрос, то в России ситуация иная: учитель попросту играет роль двойника Южина и в своих высказываниях выступает таким же догматиком с идеями о вере в справедливое современное государство («Сейчас, слава богу, есть, во что верить») и однозначными оценками в толковании истории (например, предлагает ученикам такие формулировки тем для рефератов: «Сталин — эффективный менеджер», «Репрессии. Страх и наказание — продуктивный механизм кадровой селекции»).

Что касается культурологических деталей, в фильме, в угоду адаптации, также имеются некоторые поправки. Например, вместо «карточек футболистов», которые, в понимании немецкой матери, собирают «нормальные парни в его возрасте», русская мать называет «марки». Очевидно, во втором случае эта подробность развивает характер персонажа: подчеркивается советское прошлое женщины, ее глубокая дезориентация в сегодняшнем дне, т. к. собирание марок едва можно назвать увлечением современных подростков.
Интересна замена в фильме пива, которое Беньямин пьет с Георгом, на вино. Известно, пиво — национальный напиток Германии, поэтому у Майенбурга справедливо употреблять именно его. Вино же не является каким-либо традиционным для России, но является культовым для христианской обрядности (например, используется при причастии как символ крови Христа). Таким образом, художник уходит от бытового к идеологическому и использует напиток как атрибут Вениамина-христианина, а не Вениамина-школьника. Примечательно, что по ходу распития Вениамин будет благословлять Гришу налитым в ладошку вином, а не, как в немецком варианте, наложением руки на голову.
Ряд этических вопросов, звучащих в словах персонажей Майенбурга, исключаются из киносценария как неактуальные для российского «климата». Например, когда Беньямин убеждает Георга в необходимости убийства учительницы по причине её национальной принадлежности (еврейка), Георг справедливо замечает: «Бенни, ты говоришь как нацист». Понимание нацизма в Германии не равно пониманию нацизма в России, и если пользоваться термином из риторики, то Георг реагирует «аргументом к антимодели», т. е. говорит о заведомо отрицательном для всех членов общества поведении. Для немцев обвинить в нацизме — значит априори убедить в неправильности, неэтичности произнесенных слов. Все потому, что когда-то, допустив нацистов к власти, даже нынешнему поколению приходится переживать эту травму, раскаиваться за предков (например, известно, что образовательная программа в Германии включает регулярные воспитательные беседы на эти темы). Да, справедливо и то, что и в России обвинение в нацизме так же будет рассматриваться отрицательно, но отрицательно по-другому — без оглядки на вину собственного народа.
Далее также будут звучать антисемитские высказывания: и в финальной главе пьесы, и в заключительных сценах фильма директор (в «Ученике» слова переходят к помощнице директора) всячески намекает Рот/Красновой на её национальную принадлежность, но эти намеки нужно разграничивать. Если немецкий директор осторожничает, то в фильме эти слова звучат с усмешкой, превращаются в нечто привычное, обыденное для России — бытовой антисемитизм. Серебренников даже развивает эту тему: к дискуссии присоединяется священник и находит в очередной православной «брошюрке» антисемитские высказывания, директору же это все кажется еще более забавным. Таким образом, если в связи с пивом и вином говорилось о движении от бытового к идеологическому, здесь, можно сказать, происходит обратный процесс.
Из сценария «Ученика» также исключают интересную полемику Беньямина и Рот по поводу отношений полов. Когда Беньямин приносит в школу самодельный крест, у Майенбурга его встреча с Рот начинается следующим спором. Ученик, как и прежде, цитирует Библию и приводит слова о власти мужчины над женщиной; учительница, естественно, аргументируя свою позицию, выступает против. Наверно, вполне справедливо, что гендерный вопрос вычеркивается из фильма: если в Западной Европе тема феминизма сегодня имеет широкую популярность, и, соответственно, пьеса отвечает запросу времени и места, в России эта проблема находится на раннем этапе своего развития, и, говоря о фильме как о произведении социально-политическом, исключение данного отрывка вполне оправдано. Также, вероятно, этот диалог имел бы некий дисбаланс сил, т. к. аргумент Рот о том, что точка зрения «половины населения Земли» уже против Беньямина, для российского реципиента стал бы не столь убедительным по причине доминирующих в России патриархальных взглядов.
Что логично, для любой адаптации культурного толка необходимо также изменение имен собственных (фамилии, имени, отчества) на привычные для аудитории той страны, на которую рассчитывает художник. Кирилл Серебренников в «Ученике», разумеется, такое изменение осуществляет. Но было бы глупо, если бы персонажи с русскими именами действовали как типичные немцы, поэтому это закономерно приводит к следующему: герои фильма обретают особые национальные характеры, психологические черты, присущие той или иной социальной роли, ведут себя в определенной ситуации так, как того требует специфика национальной культурной среды.
Действующие лица
Директор
Главное изменение данного персонажа заключается, как ни странно, в смене пола: немецкий Вилли Батцлер — мужчина, Людмила Ивановна Стукалина в адаптации Серебренникова — женщина. Очевидно, это сделано по причине того, что отечественному зрителю привычней видеть директора школы и педагогический состав вообще преимущественно представленный женским полом, но это режиссерское решение приводит также к другим существенным отличиям между пьесой и киносценарием.

Кардинально меняются отношения директора и учительницы биологии, в меньшей степени в профессиональном и в большей — в личном плане. Батцлер видит в Рот объект для флирта, находит её для себя привлекательной, поэтому после расспросов о новой прическе, макияже, парфюме и встречном вопросе учительницы «Вас что-то не устраивает?», отвечает: «Не знаю, что вы с собой сегодня сделали, но можете делать это чаще». В той же самой ситуации Людмила Ивановна пытается упрекнуть Краснову в неприличности: «Старайтесь выглядеть скромнее! Вы в школе работаете!» — в этих словах слышны интонации наигранной строгости, а фактически — зависти, взгляда на учительницу как на соперницу.
Эти мотивы повторяются далее еще не раз: например, на слова Рот «по крайней мере, я не раздеваюсь и не проповедую всякий бред» Батцлер позволяет себе достаточно фривольный намек: «Хотя было бы куда приятнее». В той же ситуации Людмила Ивановна опять раздражается и заключает: «Этого еще не хватало!».
Учительница биологии
Эрика Рот пьесы Майенбурга и Елена Львовна Краснова фильма Серебренникова — персонажи крайне близкие в том смысле, что основой их мировоззрения являются новые прогрессивные взгляды в вопросе образования, но некоторые сцены и реплики, связанные с учительницей или проговариваемые ей, имеют некоторые отличия, которые всё же формируют различные образы.
Когда Рот впервые говорит с Дёрфлингером о поведении Беньямина, она находит его причины в «переживании нового телесного опыта», т. е. подходит с явно терминологическими формулировками, она — учитель биологии, человек науки; Краснова в фильме лишается этих реплик, и её анализ можно рассматривать скорее как субъективный, оценочный, основанный на личных ощущениях, а не на применении научных знаний.
В Эрике Рот также обнаруживаются национальные черты, традиционно приписываемые немцам. В её диалоге с Дёрфлингером она говорит о причине такого внимания к ученику (Беньямину) и его религиозному угару: «Мне вынесли официальное предупреждение». В русифицированном варианте такой реплики, конечно же, нет, т. к. вряд ли стоит сомневаться в большей противоположности немецкой педантичности, чем русская индифферентность к подобного рода замечаниям.
Исходя из собственной концепции, К. Серебренников ощутимо меняет некоторые детали в двух финальных сценах. Во-первых, Гриша — не умирающий Георг, который, будучи окровавленным, смог дойти до школы, — это образ мистический. Его слова, адресованные Елене Львовне, не сообщение об угрозе в лице Вениамина, но явление себя как откровения, заставляющего её вернуться и настаивать на своем. Во-вторых, если деталь, связанная с Гришей, стала чем-то фантастическим, в следующем случае, связанном уже конкретно с поведением Елены Львовны, вектор скорее направлен в обратную сторону. Явно аллюзивная ремарка Майенбурга «(…прибивает стопы к полу)» на экране выглядит иначе: Краснова прибивает к полу не ноги, а кроссовки, и после встает в них. Если снова вернуться к заголовкам пьесы и фильма, соответствия очевидны. «Мученик» может быть применим также и к Эрике Рот, а в конце пьесы она скорее заявляет о «своем месте» в мире, в социуме; Елена Львовна в «Ученике» расценивает себя, прежде всего, в связи со своей профессией, как учитель — необходимая для школы единица. В сумме её действия становятся не чем-то богоборческим и вообще борьбой не «против», но «за» — за просвещение, рационализм, науку.
Учитель физкультуры
Следует сразу же заметить, что название подзаголовка отвечает только реалиям фильма, т. к. Маркус Дёрфлингер в пьесе — это также учитель истории. Такое сочетание преподавательской деятельности крайне необычно для российской школьной традиции, поэтому в фильме персонаж распадается на двух, и в эпизоде на уроке истории в роли учителя выступает женщина, о которой уже упоминалось раннее.

В связи с изменением рода деятельности физрук Олег Иванович теряет интеллектуальный ресурс Дёрфлингера: Серебренников отказывает ему в гуманитарном образовании (урок истории про индустриализацию, уже сказано, ведет не он), в аналитических способностях (он не силен аргументацией в спорах, фразы вроде «ты не можешь быть терпимой к нетерпимости» исчезают), в каком-то духовном опыте (Дёрфлингер утверждал, что когда-то был коммунистом). Речь адаптированного персонажа много проще (не употребляет терминов вроде «превентивный удар»), и вообще количество его реплик значительно сокращается.
Очень показателен эпизод его разрыва с Рот/Красновой. У Майенбурга перед уходом он заявляет: «Можешь выйти на связь, когда снова станешь разумной атеисткой». В фильме вторая часть реплики меняется: «…когда станешь нормальной бабой». Таким образом, Дёрфлингер, настаивая на атеизме, апеллирует к рациональному началу, называя условием примирения возвращение Рот к прежним взглядам, слова же Олега — слова не идеологического соперника, а лишь мужчины, уставшего от безразличия своей возлюбленной.
Учитель религиозного воспитания
В связи с религиозными традициями Германии и России, в пьесе и фильме преподавателями в школе по данной дисциплине являются пастор Дитер Менрат и отец Всеволод, представители протестантской (лютеранской) и православной конфессий соответственно. Однако различия между ними едва ли носят идеологический характер, меняются не их взгляды на прочтение Библии, набор принципов и догм, проповедуемых священниками, но их обыденное поведение, нравы.
Что касается преподавания в школе, каждый преследует совершенно разные цели. Пастор относится к ним легкомысленно, говорит, что на этих уроках «в младших классах раздают конфеты и бумагу для рисования, а в старших они [ученики] делают домашние задания», т. е. никто не стремится давать детям реальные знания. Русифицированный персонаж видит смысл уроков в назидании, пропаганде своих идей: «У нас есть ОПК: разговариваем о жизни, смерти, семье, браке…». Тем не менее нельзя говорить о втором случае как об обучении христианской этике, т. к., во-первых, отец Всеволод в этой своей реплике не упоминает о каком-либо толковании Библии, и, во-вторых, как и персонаж пьесы, вообще не склонен обращаться к Священному Писанию, предпочитая ему различные «брошюрки».
Уже исходя из понимания ими своих задач, можно говорить о немецком персонаже в сравнении с российским, как о человеке, относящемся к происходящему с некоторой долей равнодушия. Это также обнаруживается в сцене его беседы с Беньямином: если он ограничивается только разговорами, то отец Всеволод в какой-то момент применяет более агрессивный подход, нападает на Вениамина с кисточкой, поливая его водой и проговаривая о сидящих в школьнике «бесах».
Мать
Если имя этого персонажа (Инге и Инга), заявленное и в пьесе, и в фильме, не сильно разнится, то изменения психологического, ментального толка заметны чрезвычайно.
В глаза бросается выбор языковых единиц персонажей. Во-первых, существенно отличается стилистическая окраска: если Инге чаще употребляет функционально и эмоционально нейтральные конструкции, то Инга активно пользуется разговорно-бытовой и экспрессивной лексикой. Для сравнения: «Я пообещала твоей учительнице, что на следующей неделе ты появишься» (Инге) и «Чтоб завтра пошел на свое плавание и вообще чтоб все свои хвосты закрыл, понял?» (Инга). Речевая характеристика позволяет судить о социальном статусе персонажей: Инге принадлежит к более-менее интеллигентной среде (или, по крайней мере, старается принадлежать), Инга же — условно рабочий класс (о чем, кстати, она сама говорит в фильме: «На трех работах работала!»).

Уровень образованности и воспитания несомненно оставляет след и на отношениях матери с сыном. Инге как мать пытается быть тактичной, готова пойти на уступки, хоть и достаточно легкомысленно, но все же действительно хочет понять, что происходит с сыном. Когда Инге говорит об интимных вещах, замечает, что может обсудить это лично с сыном и не собирается никому об этом сообщать: «Ты можешь рассказывать мне о таких вещах…» и «Нет… Я напишу про синусит», — не провоцирует ребенка на эмоции, и, несмотря ни на что, обращается к нему с видимой снисходительностью: «Мальчик мой, что случилось?». Инга — противоположность Инге, её средство — агрессивная назидательность. В пылу расспросов она старается задеть своими советами: чтобы иметь красивое тело, которое, по её мнению, не устраивает сына, «спортом нужно заниматься!». Мать пытается найти общий язык с сыном и на его ироничные заявления отвечает враждебно («Дуру из меня делать не надо!»), а узнав о проступках сына, относится к нему с явным презрением («Ты вообще слышишь, что я тебе говорю, придурок?»).
Что касается личных качеств, то Инге — по-немецки прагматична и не поддается на устрашения сына, зачитывающего ей фрагменты из Библии об адских муках, «плаче и скрежете зубов», а иронично замечает: «Пока ты единственный, кто стучит зубами. Иди, надень что-нибудь сухое». Инга же с большой наивностью принимает слова Вениамина близко к сердцу и на самом деле испытывает страх: «Веня, это не смешно», — что позволяет сыну «победить» в данном диалоге, произвести на мать впечатление, запугать её.
Георг-Гриша
Как в пьесе, так и в фильме, друг Беньямина/Вениамина в какой-то момент говорит: «…я теперь вроде как твой ученик», — и получает положительный ответ. Однако, следует сказать, что отношения между «учителем» и «учеником» в произведениях разнятся.

Персонажи в своей основе отвечают национальной специфике: ментальность Георга — рациональная, Гришина, наоборот, — в большей степени иррациональная. Первый, несмотря на свои чувства к Беньямину, часто оглядывается на здравый смысл, старается мыслить трезво, позволяет себе спорить с «учителем». Так, например, когда Беньямин убеждает организовать «богоугодный несчастный случай», т. е. убить Рот, это сопровождается многими контраргументами Георга, вроде «это звучит нехорошо», «ты говоришь как нацист», «разве Бог не покарает её сам когда-нибудь?». Гриша не решается противодействовать Вениамину, ни одной из указанных реплик он не произносит, он слеп в своей любви и может только внимать возлюбленному. Только в конце жизни, перед самой смертью, Гриша осмелится сказать Вене, что «нельзя никого убивать» (перед смертью меняется и Георг, причем его изменение прямо противоположно — он говорит, что просто струсил).
Беньямин-Вениамин
Естественно, среди изменившейся среды и социума вокруг не мог не измениться и центральный персонаж пьесы. Некоторые изменения его отношений с другими персонажами были описаны выше, и в этой части следует остановиться на отношении к нему, а точнее — на том отношении, которого он желает добиться.
В 12 главе пьесы Майенбурга состоится вторая беседа Беньямина и Георга. Многое из диалога не было использовано в фильме, и, среди прочего, стоит отметить, что Беньямин в пьесе не стремился к контакту (спрашивает у Георга: «Ты настолько одинок, что должен разговаривать со мной?»). Беньямин чувствует себя аскетом, которому важны только его отношения с Богом. Между тем, Вениамин в «Ученике» добивается противоположного: этот диалог происходит уже у него дома, т. е. он приближает к себе Гришу, намеренно ищет авторитетности. Здесь снова находит свое воплощение согласуемый с изменением заголовка смещенный акцент в образе Вениамина к ученику-подростку, но не мученику-проповеднику. Это явление наблюдается неоднократно: например, в его артистичном выступлении на уроке истории, где завершающее полемику крестное знамение Вениамина, адресованное одноклассникам, выглядело как обыкновенно завершающий спектакль поклон, а также в последующих далее аплодисментах и улыбке на лице «артиста». В этой связи меняется и подход к анализу дальнейших событий, а именно его клеветы на Елену Львовну, где логично обиженный мальчик-подросток отличается жестокостью и подлостью в своём желании «победить».
Об ученике!
Использование местных российских реалий не только позволило обратить внимание на какие-то национальные вопросы (косность в проблемах воспитания, бытовой антисемитизм, симпатии общества к тирании, обветшалое православие и проч.), но также сделало возможным создание нового дискурса. Если немецкий драматург обращается к теме идеологического спора, противостояния религиозного и научного в обществе, то в адаптации Серебренникова обнаруживается классическая тема «отцов и детей».
Вследствие изменения проблематики также происходят изменения жанровых характеристик. «Мученик» предлагает сюжет в сослагательном наклонении, автор изображает предполагаемые обстоятельства — это некая социальная притча. Центральный персонаж «Ученика» — данность, происходящее с ним — происходящее с подростком, главная особенность которого — не принадлежность к социальной среде (школе), а возрастная характеристика, незрелость. Предметом изучения в картине становится психология личности, поэтому в равной степени российский фильм можно называть и драмой социальной (об учителях и учениках), и драмой психологической (об ученике, мальчике-подростке, а не мученике).