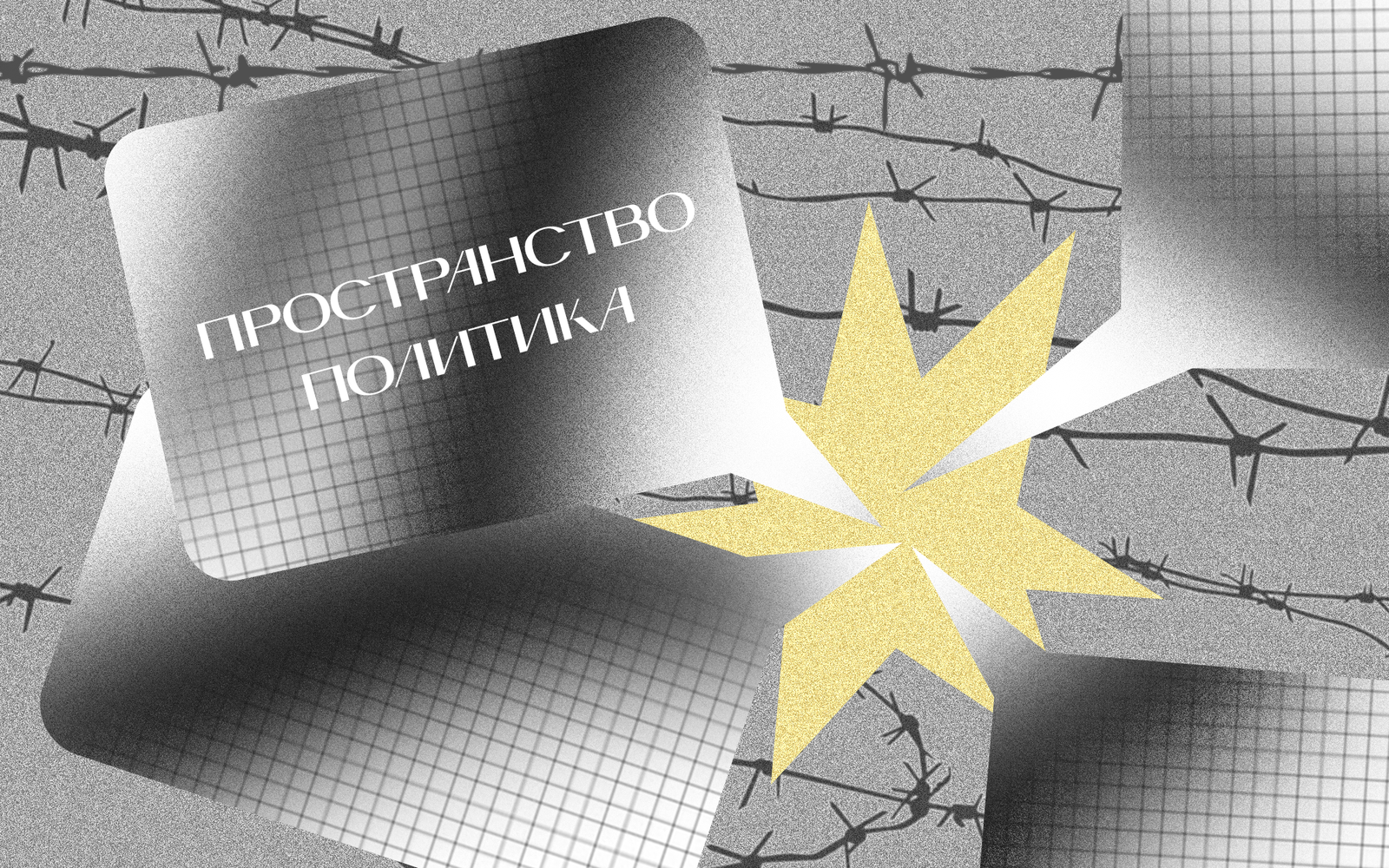Политзаключенными в России за последние 13 лет признаны более тысячи человек. Для сидящих в СИЗО и тюрьмах письма становятся единственной связью с внешним миром, дающей поддержку и силы справляться с одиночеством. Как правильно переписываться с политзаключенными, где искать их адреса и с чего начать общение с незнакомым адресатом, недавно рассказали на вечере писем в «Пространстве Политика», развивающем общественные дискуссии в России.
С координатором проекта Никитой Верзуном мы поговорили о том, чего точно не стоит рассказывать в письмах заключенным, как лучше выражать сочувствие, как оформлять конверты и электронные сообщения, а также почему нестандартные дискуссии раскрывают людям противоречия в убеждениях и для чего стоит продолжать разговаривать о политике с людьми разных возрастов и взглядов.
Я побывал на вечере, посвящённом письмам политзаключённым, от сети молодёжных гражданских проектов Пространство Политика. Это было их первое подобное мероприятие. Активисты собирали поручительства за автора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова, обсуждали опыт поддержки людей в заключении и делились эмоциями от происходящего вообще. Одна девушка рассказывала про свои письма белорусскому политологу, который работал в кампаниях Барака Обамы и Ангелы Меркель, а потом поехал в Беларусь к матери и попал в СИЗО. Она вспомнила, как арестованный появлялся на видео в измождённом виде, с небрежно сбритой бородой, и рассказывал о хороших условиях в СИЗО, а после освобождения просто исчез из медиапространства. Какой-то мужчина сказал, что политзаключённые — совесть и шанс России. Ещё одна участница вечера, описывая впечатление от судебных заседаний, на которые ходит поддерживать обвиняемых по политическим мотивам, назвала письма единственной для арестованных связью с миром.
Гости Пространства с трудом начинали диалог: девушка расплакалась, когда стала говорить о письмах. Затем организаторы предложили каждому выбрать случайного адресата из осужденных или находящихся под следствием, раздали конверты и памятки о том, как им писать. Некоторые прямо на бумаге просили у адресатов прощения за почерк, кто-то искал своему адресату анекдоты, кто-то рисовал в письме мем про «рыбов».
Вечер писем не единственная инициатива Пространства Политика. Проект официально существует с начала 2018 года — его организовали студенты первого курса факультета социологии ВШЭ по предложению московского политика Юлии Галяминой. Сейчас Пространство Политика действует в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани, а до начала военной операции работало ещё во Владивостоке, Тюмени и Нижнем Новгороде. После 24 февраля власти признали нежелательной организацией немецкий Фонд Генриха Бёлля, являвшийся главным спонсором, и Пространство ради своей безопасности прервало с ним сотрудничество. Страну покинула часть команды, в Нижнем Новгороде пришлось закрыться из-за угроз и провокаций от провластных активистов. Несколько раз на мероприятиях в Нижнем появлялись полицейские, но дальше объяснительных дело не заходило.
Команда взяла паузу на месяц, так как было неясно, чего теперь ждать, а привычные дискуссии об идеологиях, равенстве и демократии стали казаться неуместными. С апреля решили продолжать, потому что людям важна поддержка. Осталась надежда только на донаты, Пространство отказалось от дебатов, школ гражданских активистов и проекта о медиаграмотности. Изменились и темы дискуссий: участники начали больше обсуждать террор, пропаганду, насилие, а также психологическую помощь, группы поддержки, колонизацию и вопрос личной ответственности. Раньше радикальные вопросы в дискуссиях поднимались редко.
Прийти на встречу может любой, если не попадает под возрастные ограничения из-за темы дискуссии. Правила простые: не оскорблять, не перебивать, уважать мнение каждого. До 24 февраля участники дискуссий сами голосовали за темы, затем от этого принципа отказались, так как казалось невозможным говорить о чём-то, кроме Украины. Сейчас голосование за темы вернули в Москве для доноров на Boosty.to.
Подробно о том, чем вообще занимается пространство, нужна ли России демократия и зачем сейчас поддерживать политзаключённых, рассказал московский координатор проекта Никита Верзун.
— Мы встретились на вечере писем политзаключённым. Почему вы решили его провести?
В Екатеринбурге наш организатор много писал политзекам и предложил устроить один из таких вечеров. В Питере этим занималось «Открытое пространство» и другие организации, вообще Питер очень развит. В Москве письмами занимался Лёша Миняйло, был «Мемориал» (признан НКО-иноагентом) плюс ещё много организаций. Началась так называемая спецоперация, и про политзеков все забыли. Мы решили, что будем проводить такие вечера, чтобы люди помнили: в России огромное количество политзаключённых, и нужно их поддерживать.
Чтобы было легче писать письма политзаключённым, в Пространстве Политика подготовили специальную памятку
Писать письма политзаключённым довольно просто в целом, но очень сложно в первый раз. В этой небольшой методичке объясняем, как это делать.
• Для начала выберите, кому писать. Вы можете использовать для этого списки Мемориала или специального телеграм-бота @svobot_bot, который случайным образом подберёт для вас адресата. Вам следует указать его ФИО, год рождения и куда направить письмо: индекс и адрес (образец можно посмотреть в упомянутом боте).
• Не пугайтесь, рассматривая белый лист: после первых слов письмо пойдёт само. Воспринимайте вашего собеседника как обычного друга по переписке, с которым вы только начали общение. Расскажите о себе, что происходит у вас в жизни и чем вы вообще живёте.
• Не стоит жалеть вашего собеседника, это едва ли поможет его поддержать, а тяжесть своего положения он осознаёт лучше, чем кто бы то ни было. Если вам хочется поддержать, то используйте для этого обходные пути: вдохновляющие или даже житейские истории редко происходят в тюрьме, но ознакомление с ними кажется соломинкой, за которую можно ухватиться, просто добрые слова и напоминание о том, что ваш собеседник не одинок, тоже способны помочь. А если вы знаете уместную притчу или даже сказку, то в ход можно пустить и её. Также можно присылать в письмах открытки, рисунки, мемы и т. д.
• Обычно собеседник любит говорить о себе, не стесняйтесь предоставить ему такую возможность. Задавайте вопросы вашему новому знакомому, чтобы узнать, что ему интересно и новости на какую тему он хотел бы получить в дальнейшем, как у него дела в конце концов.
• Есть, впрочем, короткий перечень того, что вам следует избегать: во-первых, не следует превращать своё письмо в политический памфлет или откровенную ругань в адрес власти. Помните, что письма в тюрьме читает цензор, который может их не пропустить; во-вторых, не стоит писать о подробностях дела политзаключённого или о ваших собственных прегрешениях, это может навредить и вам, и ему; в-третьих, избегайте использования иностранных слов, сложных аббревиатур и нецензурной лексики, не переписывайте тексты песен и не отправляйте математические формулы, опять же, цензор может не понять и завернуть письмо.
• Если вы не хотите показывать свой адрес сотрудникам ФСИН, но при этом всё же хотите получить ответ, то достаточно указать индекс и адрес вашего почтового отделения, вашу фамилию и написать «до востребования». В таком случае вам нужно будет приходить на почту справляться о наличии письма «до востребования».
• Если вы хотите получить ответ, также не забывайте вкладывать в конверт с письмом чистый новый конверт и марки — их в СИЗО и тюрьмах заключенным не выдают. Вы также можете отправить электронное письмо через портал «ФСИН-письмо» — отправка письма будет стоить 50 рублей, ответное письмо нужно будет также оплатить заранее.
— Чем ещё занимается Пространство?
До так называемой спецоперации мы делали обычные дискуссионные встречи, у нас были дебаты, встречи на международную тематику, где мы обсуждали отношения разных стран, в том числе России с кем-то. Ещё политические чтения и пространство кино. Теперь дебаты мы не можем проводить, потому что есть опасность для спикеров и для участников из-за привлечения внимания. О загранице вопрос просто себя отжил — какие теперь международные отношения? Мы просто не понимаем, как о них говорить. Ещё у нас прошли три школы для гражданских активистов в Сибири, мы собирали деятелей из разных проектов, привозили их на три дня в Новосибирск и устраивали тренинги, мастер-классы. Помимо этого, совместно с Европейским союзом мы проводили проект — серию тренингов по медиаграмотности и критическому мышлению на территории восьми или девяти регионов. Там мы пытались зародить культуру правильного чтения медиа, критического подхода к информации — того, чего обществу очень не хватает, особенно старшему поколению. Что касается аудитории, то она была разная, но в среднем молодёжь от 18 до 30 лет. Этот проект тоже пришлось свернуть, потому что сейчас нереально получить деньги из других стран как из-за опасений за свою безопасность, так и из-за трудностей с переводом.
— Какие дискуссии больше всего тебе запомнились, как-то зацепили?
В Москве из таких первых — встреча об университетах, которая меня натолкнула на интересные размышления. Я сам был замкнут в комьюнити ВШЭ. Встретив студентов из РАНХиГС, МГУ и так далее, лучше понимаешь состояние образовательной системы. И в целом понимаешь, в каком направлении она должна двигаться и какие у неё есть ошибки. Но сейчас вообще сложно говорить про недочёты в образовании, когда Россия вышла из Болонской системы, международные лаборатории закрылись, а преподаватели, называющие вещи своими именами, подвергаются репрессиям. Без этого наше образование начнёт деградировать, особенно социальные и гуманитарные науки.
Ещё была крутая серия встреч, среди которых одна касалась ельцинской эпохи. Там пришло какое-то огромное количество людей, около 70 человек. И я удивился, насколько на самом деле Ельцин для целого пласта людей оказался фигурой непонятной, мифической. Они о нём говорили только в контексте классических наборов фраз: пьяница, алкоголик. Для меня это тоже человек, совершивший немало ошибок, главная из которых — это выбор Путина вместо Немцова. Но всё же в результате дискуссии люди искреннее удивились — они прямо не ожидали, что Ельцин не только страну, условно, развалил, но и много чего хорошего сделал.
Ещё встреча про террор, которая прошла в июне. Можно было легко зафиксировать по аудитории, как произошла нормализация насилия: люди пришли, спокойно сели, начали обсуждать террор, говорить об этом без толики эмоций каких-то. В конце обсуждения мы задали вопрос: «Вам вообще как, что это нормализуется? Мы с вами сидели, два часа говорили, а никому в голову не взбрело, что в нескольких тысячах километрах происходит то, что подпадает под описание террора». И у людей в глазах считывалось абсолютное непонимание, они как будто заглянули немножко в себя, поняли, что как-то смирились, свыклись. Это, мне кажется, сейчас важная история, потому что с каждым днём мы видим, как общество начинает привыкать, считать террор новой реальностью, нормальностью.

— Какие события обсуждали на этой встрече, с каких позиций?
Начинали с банальных вопросов вроде «Кто является актором террора? Может ли террор быть справедливым?» После уже перешли к обсуждению конкретных кейсов: ковид, город без наркотиков и деанон силовиков во времена протестов в Беларуси. Тут мы взяли достаточно спорные примеры, так как хотелось понять, как люди реагируют на «террор во благо», и определить его границы. В конце мы сделали достаточно резкий переход — начали говорить про то, что происходит на Украине и как наши участники воспринимают происходящее.
— Какая вообще цель у организации?
Наша основная цель — развитие диалога о политике как таковой. Потому что в обществе не принято говорить о ней. На кухне, распивая алкоголь, — да, но серьёзно говорить на политические темы — не между политиками и активистами, а между обычными людьми — такого у нас не заведено. Мы пытались как-то это преодолеть. Также мы являлись одной из студенческих организаций ВШЭ (нас лишили этого статуса незадолго до того, как лишили статуса студенческого СМИ DOXA), и пытались привлекать молодёжь в политику для того, чтобы показывать: ребят, политикой надо заниматься, это очень важная вещь, потому что если вы не будете этого делать, то политика займётся вами. Через разговор, через поиск точек интереса для каждого человека мы пытались найти точки соприкосновения с людьми, которые не интересуются политикой.
— У вас на сайте заявлено стремление развивать культуру демократических ценностей. Почему именно демократия? И зачем вообще простым гражданам заниматься политикой?
Я, ещё будучи ребёнком посетив первый раз европейскую страну, Чехию, удивился, что на автобусной остановке в Праге вывешено табло с расписанием. Я спросил у бабушки, а почему так, и она говорит: «Потому что политикой занимаются». Я сказал: «Тогда я тоже буду заниматься политикой, чтобы в нашей стране так было». Это был год 2004–2005, я жил в Ставрополе, и там не то что расписания не было, там ездили, да и сейчас ездят старые пазики, у которых сквозные дыры в полу. К слову, тогда и в Москве не было адекватного расписания. Я осознанно поступал на политологию, зная, что хочу и буду заниматься политикой, и именно в своей стране, потому что мне важно её развитие.
Как мы знаем, демократия не идеальный образ какой-то, но по крайней мере всё, что нам говорит политическая наука и примеры либеральной демократии, которые мы знаем: в демократических странах люди живут не идеально, но лучше. Пусть условно управляют такие же властные политики, им приходится считаться с интересами граждан. У нас этого не происходит. Если приехать в какое-то село, можно удивиться, как вообще люди живут. Мне кажется, там отпадёт любое желание доверять власть тем, кто сейчас у неё находится.
Демократия предполагает участие только заинтересованных людей. Если тебе не интересна политика, ты отдаёшь её на откуп тем, кому она интересна. Важно ли интегрировать людей, чтобы они думали о политике? Мне кажется, да. Как это, например, реализовано в Швейцарии, где люди должны сами платить налоги и видят, на что они идут. Они понимают, какую сумму заплатили и что государство им должно за это сделать. У нас такого нет, потому что всё сделано для того, чтобы люди как раз не видели, куда уходят их деньги, и жили в своём маленьком мирке.
— Может ли добиться успехов политически активное меньшинство или нужно вовлекать в политику как можно больше людей?
У нас есть случаи, когда меньшинство чего-то добивалось. Например, избрание Дарьи Бесединой в Мосгордуму или когда в районе люди согласовали перенос станции метро. Недалеко от моего дома начали строить станцию «Лефортово», и один из выходов был прямо рядом с домом. В итоге жильцы совместно с экс-муниципальным депутатом Павлом Тарасовым смогли добиться отмены строительства второго вестибюля. Но, к сожалению, это всё это касается маленьких побед. Нам надо заниматься реполитизацией, чтобы люди поняли: их жизнь, их состояние и то, как живёт страна, зависит именно от них.
— То, что вам раньше помогал Фонд Бёлля — насколько это нормально? Зачем немецкому фонду поддерживать российскую организацию?
Нужно понимать, что в Европейском союзе странами была подписана резолюция о том, что они будут инвестировать в развитие демократии во всём мире. И Германия просто делает это наиболее понятно для нас. Были ещё фонды, только далеко не все были готовы поддерживать проект такого формата.
Нормально ли получать помощь? Я считаю, что да. Потому что люди, которые работают с фондами, знают: фонды не говорят, как кому жить. Вы сами к ним приходите: хочу реализовать школу для гражданских активистов. Они смотрят, нравится им или не нравится, дадут деньги или не дадут. Они же не говорят, что делать, какие темы обсуждать. Фонд Бёлля является левым и зелёным, а мы до так называемой спецоперации пытались исследовать, кто такие правые, чем они занимаются и можно ли с ними взаимодействовать. У нас было много таких тем: правый дискурс, русский мир, и не было, чтоб фонд пришёл и сказал: вы делаете не то, а должны сделать это. Нет! Никогда такого не было.
Вечер писем организаторы Пространства Политика провели в Москве на Хохловском переулке. Выходя из прохладного помещения, пропитанного мыслями о политзаключённых, каждый попадал на веранду кафе, под солнце и улыбки. Жарким летом, в безопасности и в стороне от разговоров о судах может показаться, что реальность именно такая: репрессии не здесь, преследуют не меня, а слова запрещают не нам. Так может показаться.
За иллюстрации к материалу большое спасибо Грише Ямпольскому!