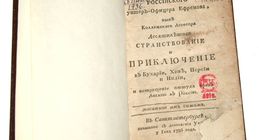В основе коллективных безумств зачастую лежат высокие идеи — жизни во имя справедливости и блага человечества. Вдохновляясь идеалистическими концепциями всеобщего счастья, на протяжении истории одни сообщества навязывают другим своё видение добра и зла. Философ Илья Розовский приглашает в путешествие по головам сильных мира сего и обывателей, в котором препарирует высокие идеи, ищет в них противоречия и рассказывает, почему настоящей справедливости не существует, в чём проблема жизни во имя любви, как мечты делают людей послушными и доверчивыми, чем эгоизм отличается от других сверхценных идей, откуда на самом деле берутся высокие концепции и для чего в вопросах идеологий важно придерживаться принципа локальности.
Мы живем в мире, который, по словам классика, умом не понять. Хотелось бы в защиту человечества сказать, что Тютчев говорил только про свою страну, но, к сожалению, Россия не единственное государство в мире, которому не подходят рациональные мерки. Порой государства как будто бы сходят с ума. Но, если вдуматься, что это значит? Легко понять, что такое обезумевший правитель, но не может же заметная часть общества обезуметь следом за ним. Или может? А если может, то как работают такие коллективные безумства?
Итак, приглашаю тебя, дорогой читатель, в путешествие по больным головам сильных мира сего и простых обывателей, чьи решения и выборы так часто продиктованы не здравым смыслом или хотя бы относительно здравым эгоизмом, но силами древними и таинственными, словно лавкрафтовские Древние Боги, знакомство с которыми пробуждает ужас и уродует души. Но не обольщайся сверх меры, ведь всякое зло, в конечном счете, банально.
Во имя справедливости
Еще в XIX веке английский джентльмен Уильям Хэзлитт заметил один весьма прискорбный факт: «Если бы человечество стремилось к справедливости, оно бы давно её добилось». Парадоксально, но мы, люди, самый социально гибкий вид на земле, на удивление менее расположены к эмпатии, чем склонны про себя думать. Нет, конечно, по возможности мы предпочитаем играть в игры с ненулевой суммой, или, проще говоря, получать приобретения не в ущерб соседу, но, будем честны, если такое решение требует слишком больших умственных или физических усилий, мы не сочтем чем-то зазорным участие в недобровольном перераспределении благ в своих интересах в обход конвенциональной справедливости.
Не правда — должно быть, возмутишься сейчас ты, дорогой читатель, — обогащение за чужой счет мы называем грабежом и кражей, участие в подобном осуждается. Ты прав, но ведь кроме краж и грабежей есть множество сравнительно честных способов увода денег. И, нельзя не отметить, что способы эти, как и авантюристы их исследующие, нам нередко интересны и более того — симпатичны. Как, например, Остап Бендер, слова которого я привожу в качестве расхожего выражения прямо в этом абзаце, или Дэнни Оушен, безупречный герой жанра «хайст» и секс-символ поколения. И это я даже не начинаю про благородных разбойников и прочих пиратов, которые вполне себе грабители и убийцы. Но нет в сюжетах о них никакой тоски по справедливости. Но где же она, собственно?
На самом деле, еще великий Франс де Валь доказал, что потребность в справедливости свойство не просто человеческое, но в полной мере присущее приматам, а более поздние опыты расширили этот список также крысами и даже попугаями. Так что постмодернистские экзерсисы на тему справедливости как социального конструкта мы сразу отбросим. Жажда справедливости у нас в генах. Вот только что именно кажется нам справедливым?
Увы, против нас играет именно животная природа чувства. Мошенники, воры и грабители вполне могут соответствовать нашему запросу на справедливость. Для этого им нужно лишь выполнять несколько нехитрых правил:
Справедливо — значит добыто соразмерным трудом. Ловко украдено, или вырвано с боем — это тоже труд, и чем опаснее противник, тем больше мы сопереживаем тому, кто его грабит. Так что да, отнять игрушку у ребенка — несимпатичный поступок, но если ребенок в тылу врага — то так уже можно. А если он еще и поднимет тревогу и придется быстро убегать от его машущей кулаками мамаши — это уже почти геройство даже.
Справедливо — величина относительная. Обезьянки в экспериментах де Валя вполне готовы были носить камешки в обмен на кусочки огурца, но стоило им узнать, что их собратьям за тот же труд дают аж целую виноградину, их возмущению не было предела. Честно на языке приматов — это не столько когда устраивают условия, сколько когда условия не хуже чужих. Даже если чужие условия противоречат первому пункту про соразмерность труда, мы все равно будем считать честными именно их, ведь если кому-то можно получать несоразмерную выгоду, будь он хоть тысячу раз бесчестный негодяй, то можно и мне. Будучи высокоразвитыми и мыслящими существами, мы способны усилием воли преодолеть манящее желание участвовать в распространении коррупционного эффекта «разбитых окон», но на всем этом пути нас будет сопровождать мучительное чувство несправедливости по отношению к себе.
Справедливо — понятие субъективное. Глубина оскорбленных чувств со стороны наблюдается плохо. В тишине одинаково выглядит «отнял» и «подарили». Чувствительные к проявлению эмоций, мы будем склонны согласиться со справедливостью более громкого, более наглядно страдающего. Сочувствие вызывает тот, кто со слезами отчаяния хулит небеса за несправедливости. Мы склонны верить ему, кричащему о поруганных сакральных токенах, в жадных руках варвара. Верить тем сильнее, чем поэтичнее и трагичнее разыгранная сцена. Обратили внимание, что вышеупомянутые обезьянки не просто переставали работать, а именно возмущались? Это неспроста. Справедливость всегда за тем, кто громче всех к ней взывает.
Справедливо — явление контекстуальное. Сама по себе справедливость подразумевает некий нарушенный баланс, а следовательно и некое положение дел, к которому стоит стремится и ради которого поощрять одних и ущемлять других. Затруднение однако в том, что эти самые «идеалы справедливости» довольны сложны для понимания, даже когда они в самом деле есть. Куда проще для усвоения подставить на их место почти равнозначные заместители, вроде «исторической справедливости». Восстанавливать историческую достоверность куда проще, чем ускользающую эфемерную гармонию. Сто лет назад эта земля была наша от моря и до гор. Все точно и наглядно. Или вот «универсальная справедливость» тоже отлично подойдет. Вместо скучного рассмотрения обстоятельств — яркий, побуждающий к действиям рекламный слоган. «Все беды от чужаков. Гони иноземного паразита», «Мир хижинам, война дворцам», «Нет закона, кроме закона божьего и суда кроме суда небесного». Разоблачить такую подмену редко представляется возможным, ведь эталонную справедливость никто не видел, да и мало кто на самом деле о ней задумывался. Несправедливость — чувство, такое же, как жажда или голод. Чем она сильнее — тем меньше имеет значение как утолять жажду справедливости.
В общем, не соглашусь я с Хэзлиттом: стремится человечество к справедливости, но иногда кажется — лучше бы не стремилось. Во имя справедливости можно и бить слабого, и отнимать чужое, и мстить, и делать любого сорта чудовищные подлости, лишь бы они делались умело и с оглядкой на зрителя. И зритель одобрит, даже если происходящее ему во вред. Лишь бы не забывали ему проговаривать, что происходящее — именно справедливость, а не то, чем кажется. Лишь бы справедливость совершалась от его имени. Ну и лишь бы «наши» побеждали, конечно.
Во имя любви
После нападков на справедливость, должно быть, дорогой читатель, ты ждешь, что теперь-то я точно расскажу, что же лучше, чем этот сомнительный инстинкт. И, думаю, ты уже подозреваешь, что я готовлюсь подмешать в твое чтиво самый банальный из всех возможных ответов на этот вопрос. Но нет, я все же попробую тебя не разочаровать. Хотя поговорим мы, действительно, о любви. Большой, всеобъемлющей и такой разной.
«Любовь — это все, что тебе нужно», — поют Битлз, «Бог есть любовь», — сказано в Библии устами Иоанна Богослова и повторено множество раз на разный манер почти всеми апостолами. Любовь сильна. Во имя любви к ближнему жертвуют собой. Во имя любви к отчизне идут на смерть и кровопролитие. Попробуй обосновать такие поступки другими чувствами и увидишь, насколько любовь незаменима в этой роли. «Любовь не терпит объяснений, — писал Эрих Мария Ремарк в Триумфальной Арке, — Ей нужны поступки». И именно поэтому любовь — страшное оружие, способное преодолеть даже базовые инстинкты и оправдать любые деяния как самые темные, так и самые абсурдные. При этом она непогрешима и во всей своей мрачной мощи не вызывает ничего кроме всеобщего восхищения и умиления. Любовь слепа. Но почему и мы так слепы в вопросах любви?
Любовь — поощряемый порок. Она зависимость, наркотик без всякого преувеличения. Не только в метафорическом, но и в буквальном значении, ее принцип действия точно такой же: любовь — это мощнейший гормональный шторм из дофамина, окситоцина, серотонина, эндорфина, тестостерона и эстрогена. Чтобы имитировать подобное действие — нужно разом употребить целый букет веществ, за одно перечисление которых можно получить проблемы с властями. Несмотря на это, миллионы людей подвергают свое здоровье колоссальному ущербу, рискуют свободой, но все же находят способ причаститься запрещенными препаратами, чтобы хоть на толику приблизиться к состоянию, похожему на любовное безумие. Настоящая же любовь не требует даже таких рисков. Ее никто не осудит и уж тем более не запретит. Запретная любовь — не про чувства, а про табуированные действия, если что. Проще склонить последнего наркомана к трезвости, чем человечество хотя бы к осторожности в любви. Наркоман в глубине души отдает себе отчет, чего стоит ему «синтетическое счастье», человечество же клеймит цинизмом малейшую любовную сдержанность.
Любовь все равно неизлечима. Есть такой парадокс в медицинской науке: можно бороться с причинами преждевременного старения, но с самим старением — моветон. Такие исследования есть, но ресурсов на них выделяется несопоставимо меньше, а сами исследователи крайне осторожно заявляют о своей специализации, предпочитая фокусировать внимание на менее спорных аспектах своей деятельности. И дело не в том, что цель заведомо недостижима, как вечный двигатель, или философский камень, но в том, что старость — «естественна». Казалось бы, рак тоже не возник в результате козней сумрачных гениев, это такой же сбой работы организма, но победить болезнь — дело в общественном представлении возможное, а старость — нет. Доказывать обратное — дело крайне неблагодарное: провал — возмездие за высокомерную глупость, малейший успех — игра в бога. Стареть и умирать — печально, но таков закон жизни. Только причем тут любовь? А она такой же медицинский феномен, как и старение. Не диагноз, не конкретный процесс в организме, но вполне реальное, наблюдаемое явление. И вот это явление наверху списка причин насильственных преступлений и самоубийств, как старость — уверенный лидер в списке ненасильственных причин смерти. Но даже в списках этих ни любовь, ни старость почти не фигурируют. Непрофессионально это. Хотя и очевидно.
Любовь того стоит. Жертвенность от любви настолько неотделима, что мы склонны принимать ее как «часть удовольствия». Как горечь благородного шоколада или боль во всем теле после хорошей тренировки. Сращение сущностей вообще интереснейший феномен нейролингвистики, но мы остановимся на том, что оспаривать отдельные свойства явлений для нас крайне сложно и даже анекдотически абсурдно. Сухое море, твердый пух, безжертвенная любовь — ну чистейшие же оксюмороны! Вот только эти понятия не содержат противоречий, но осознать это трудно. Море должно быть мокрым и это нужно принять. Любовь тоже нужно принимать такой, какая она есть во всей полноте свойств. Тем более, что принять и даже полюбить страдания вообще-то совсем не сложно, а еще и очень благородно. Как воспеты эти страдания в античных поэмах, декадентских стихах, рок-балладах — не жалко и пострадать немного за такое! Татуировки, шрамы и проколы делать тоже больно, но это часть инициационых практик. Вот и жертвы во имя любви — пропуск в общество настоящих людей. И то, что на самом деле страдания не обязательны — уже не важно. Они обязательны в культурном коде.
Что за жизнь без любви. Человек существо адаптивное: мы без многого можем прожить довольно счастливую жизнь. Об этом снято бесчисленное множество фильмов и написано еще больше книг. Счастье на войне и на руинах, ей оставленных. Счастье в концентрационных лагерях и тоталитарных государствах. Счастье после конца мира, на обломках которого осталось всего два человека, которым, однако, обязательно суждено влюбиться. Но счастье без любви… Нет, это не для людей. Это не настоящее счастье. О том, какое оно ненастоящее, снято еще больше фильмов и написано просто бесконечное множество книг. Нет более порицаемого порока в обществе, чем непринадлежность к вышеупомянутым «настоящим людям». А уважение среди них прямо зависит от того, как много беззаветной, затмевающей все любви ты можешь дать в священных семейных узах, в трудовом коллективе или как гражданин государства. Что за жизнь ждет человека без любви? Жизнь изгнанника.
Какой же ты, автор, циник — должно быть думаешь сейчас ты, дорогой читатель — совсем не веришь в высокие чувства. Но, нет, спешу уверить, я «свой», я добровольно прошел инициацию и по праву наслаждаюсь горько-сладкой амброзией, о чем ничуть не жалею. Несмотря на все написанное, я искренне считаю, что любовь — прекрасное и важнейшее чувство, которое не просто дает нам право считаться, но по-настоящему делает нас людьми. Более того, даже вместе с необязательной болью.

Не так просто заставить себя перестать любить. Человека, с которым давно и прочно установились обоюдно разрушительные отношения, коллектив, который давно позабыл о своих изначальных целях и стал в корне неэффективен, страну, которая несет зло и разрушение своим гражданам и соседям. И мало что будет сказано приятного о том, кто смог. Это мое слово в его защиту.
Во имя мечты
Ты уже наверняка заметил, дорогой читатель, как я люблю для весомости своих слов подсыпать в текст цитаты. И раз уж это все равно очевидно, я воспользуюсь самым авторитетным автором из возможных. Человеком, сказавшим: «Я не согласен с тем, что вы говорите, но буду до последней капли крови защищать ваше право высказать вашу точку зрения», — великим гуманистом Вольтером. Ему же принадлежат слова «Человек должен мечтать, чтобы видеть смысл жизни». И вот их я намереваюсь извратить.
Присутствие в жизни смысла — довольно жуткое убеждение. Оно подразумевает, что его можно выполнить или провалить, после чего жизнь его теряет. Смысл жизни, по определению, ценнее жизни. Огромное счастье, если задуматься, что в обыденности никакого смысла мы у жизни не замечаем и даже размышлять о нем сколько-то серьезно не стремимся. Вопрос смысла жизни — поэтический в большей степени, чем философский. Приглашение к банальности. Так что жертвовать собой и другими ради него не приходится. Гуманистический постулат о ценности самой жизни в противовес ее смыслу для нас сегодня более естественен.
Но вот тут на помощь силам зла приходит совет Вольтера. Человека нужно просто заставить мечтать. Так куда же приводят мечты?
Мечты совершенны. В отличии от реальности, они поддаются нарративу, и если он требует случайностей или их отсутствия ради сохранения связности, мы, существа настроенные на восприятие историй, склонны принять такое допущение. И вот мы уже и не замечаем, как по дороге из желтого кирпича приходим к утопии, хоть к космическому коммунизму, хоть в Город Солнца. Пункт назначения без сомнения прекрасен. И пришли мы в него прямо из реальности, из момента здесь и сейчас, где нет времени дойти до зубного, нет места на парковке и хамят в магазине. И все было так логично и непротиворечиво. Инструкция так проста. Нужно просто… ну, убить немного плохих людей, например, без которых жизнь станет очевидно лучше. В мире мечты по ним никто страдать не будет, да и они сами не совсем настоящие, они ведь просто оковы, удерживающие нас в этой бренной реальности. Никогда не стоит недооценивать наше стремление к эскапизму.
Мечты реальнее жизни. Звучит странно, но на самом деле легко заметить это свойство, если обратить внимание на то, что жизнь раскинулась не только в пространстве, но и во времени. И если в настоящем и некоторой части прошлого жизнь все же превосходит мечты за счет своей материальности, то в далеком прошлом и даже совсем не таком далеком будущем мечты просто не оставляют жизни шанса. Реальное прогнозирование жизни расплывчато и полно белых пятен, мечты же не выцветают в потоках времени. С ними легко помыслить себя за пределами собственного Я, прочувствовать чаяния народов и счастье потомков. Осознать ничтожность момента и грандиозность поступка. Жизни просто нечего противопоставить таким масштабам. И ей легко можно пожертвовать в ее незначительности.
Мечты возвышенней раздумий. В целом, общество склонно поощрять взвешенные, разумные решения. Нельзя сказать, что это работает особо хорошо, но все же взять кредит на казино без риска быть высмеянным невозможно, а общественное порицание — довольно неплохой инструмент сдерживания. Но, разумеется, это не касается волшебного слова «мечта». Даже если эта мечта про то же самое казино в кредит, высмеивать ее будет уже не такой общепринятой позицией, если она изобилует подобающими мечте подробностями. Например, что это мечта сыграть в том самом казино в Монако, в которым, по слухам, Ян Флеминг придумал Джеймса Бонда. Если говорить совсем просто, мечта оправдывает глупость. А оправданная глупость — сама по себе привлекательна.
Мечты сбываются. И в этом больше тревожных ноток, чем может показаться с первого взгляда. Люди нередко бывают расстроены, злы и даже агрессивны по бесчисленному множеству причин, но обычно это хаотичные, подавляющие друг друга волны. Мечты же создают ритм людским массам, настраивают их друг на друга, направляют к единой простой и понятной цели. И вот это уже не личное расстройство и злость, а голос в самоорганизующейся толпе, народное движение, которое не поощряет тех, кто уже выкипел и хочет уйти. Такие народные массы вполне способны добиться цели. Цели того, кто задает ритм мечтам.
И вновь я спешу сказать, что не хочу и не имею права осуждать мечтателей. Именно они расширяют горизонты представимого, только так можно решиться на риск, без которого по определению невозможен успех. Выдающиеся ученые, предприниматели, общественные деятели просто обязаны быть хоть немного мечтателями. Иначе они изначально бы выбрали другие жизненные пути. Вот только не стоит забывать, что не мечтания объединяющая черта выдающихся людей, но небольшая примесь мечтательности в их характере. Воспетая же в роли добродетели, мечтательность делает людей послушными и доверчивыми, а нередко и откровенно опасными. Очень много чудовищных решений было принято после слов «ты только представь себе не мгновенье».
Во имя всего человечества
Из всех больших идеалов интересы человечества, пожалуй, — самый простой в формулировании и одновременно самый гибкий. С точки зрения простоты, достаточно вспомнить слова Льва Толстого: «Важно всегда было и будет только то, что нужно для блага не одного человека, но всех людей», — или еще множество крайне сходных высказываний от плеяды авторитетных источников. Это так исчерпывающе ясно, что даже банально. Но тем лучше для усвоения и применения, не так ли?
С гибкостью все тоже достаточно ясно. С одной стороны, идеал общечеловеческого блага легко обрастает мотивированными последователями, а с другой, в целом восприятие человечества гомогенной сущностью — весьма функционально как заложенный в системе ценностей защитный механизм против внутренней деструкции. И никаких дополнительных надстроек. Свобода мнений без насилия. Стремиться можно к чему угодно, если это не разрушительно для человечества.
Но увы, даже такая, казалось бы, простая и элегантная система не лишена критических рисков. И скрываются они как раз в ключевых преимуществах:
Человечество — это кто? Мнимая очевидность ответа оставляет этот вопрос открытым, что представляется важнейшим аспектом манипулятивных трактовок. И я даже не говорю про откровенно сомнительные элементы, готовые подписаться под интересами человечества, незаметно выписав из него определенные расы или целый гендер, хотя и такое случается. Но рассмотрим ситуации, где интересы разных страт человечества противоположны друг другу. Казалось бы, почва для дискуссии, тут-то и должна работать гибкость, но когда на кону стоит не общая незначительная жертва ради коллективных интересов, а серьезная жертва какой-то определенной группы ради выгоды другой — особой почвы для дискуссий не получается. Должны ли все мало-мальски обеспеченные люди немедленно передать все излишки на решение проблем тех, кто прямо сейчас голодает и умирает от болезней? А может быть наоборот, стоит немедленно прекратить расходовать средства на людей с изначально низким потенциалом и сосредоточить ресурсы в руках образованных и продуктивных индивидов, которые более всех имеют шансы повлиять на судьбы всего человечества? Тут почва для серьезного конфликта под знаменами интересов человечества с обеих сторон, а вовсе не для диалога.
Человечество против человека. Увы, но любая коллективистская модель содержит в себе почву для утилитарного отношения к индивиду. Пусть даже интерес отдельного человека стоит буквально на втором месте после интересов человечества, этого вполне достаточно, чтобы пожертвовать любым из нас, а значит в конечном итоге каждым. В этом смысле, национальная идея не сильно отличается от общечеловеческой. У тех, кто говорит от лица нации, всегда находятся аргументы против отдельных ее представителей. Нет причин считать, что в случае с человечеством ситуация изменится. В конечном счете, единственная причина, почему благо человечества кажется нам более прогрессивным, чем благо нации или, скажем, благо религиозной группы — это отсутствие реальных примеров. Однако любопытно заметить, что самые жуткие режимы как правило и претендуют на власть над всем человечеством или по меньшей мере большой его частью. Не аргумент, конечно, но закономерность настораживающая.
Идеал общечеловеческого догматичен. Казалось бы, а как же та самая гибкость, позволяющая сосуществовать внутри одного идеала бесконечному числу разнообразных течений? Нет, ставки слишком высоки. Когда во главе угла аж целое человечество, любой, даже незначительный в другой ситуации вопрос быстро разрастается до буквально вопроса жизни и смерти. Разнообразие идеалов позволяет сосуществовать, например, таким враждебным друг другу группам, как верующие и атеисты. Но если и те и другие оперируют общим идеалом человечества, то аргументы становятся куда нетерпимее: свободное критическое мышление — основа выживания нас как вида, духовность и принадлежность к общине с ясными моральными ориентирами, — единственное, что удерживает нас от варварства и братоубийства. Такие аргументы случаются и вне контекста блага для всего человечества, но внутри этой парадигмы спор наглядно заостряется, и мирная, гибкая модель идеологии становится рассадником непримиримой вражды и нетерпимости к малейшим разночтениям в ее понимании.
Что бы ни делалось, все во имя всего человечества. И тут мы говорим о второй сильной стороне подхода, которая также легко оборачивается его слабостью. По существу, он слишком малого требует от сторонников и главное от «проповедников». Если представить себе самого банального тирана-властолюбца, практически лишенного как интеллекта, так и чутья, принимающего решения спонтанно и с откровенно дурными намерениями, — так ли легко нам будет сказать, что действует он не в интересах всего человечества? Не возникнет ли ситуации, при которой до самой катастрофы мы сможем находить обоснования его решениям? Они противоречат друг другу просто потому, что ситуации меняется, и благо для человечества вместе с ней. Они ведут к жертвам, только вынужденно в интересах опять же всего человечества. Отсутствие универсальности лишает стороннего наблюдателя важнейшей опоры в виде объективных маркеров, а постепенные изменения к худшему становятся незаметны на фоне, в общем-то, совершенно абстрактной великой цели, для которой любое положение дел — это состояние «на полпути». Мы склонны успокаивать себя тем, что у руля стоит кто-то, кто понимает, что делает. И чем невозможнее понять, что это не так, тем больше мы будем убеждать себя в правильности любого выбора.
В результате получается, что мысленные конструкции о благе человечества — это простой «усилитель вкуса» для любой стратегии действий. И любой повар из посредственного общепита объяснит вам, как сделать продаваемое блюдо из испорченных продуктов с помощью таких добавок. А кроме этого весьма нежелательного побочного эффекта у блага для всего человечества практически нет самостоятельных полезных свойств. Теоретически освобождающая от зашаблонивания идеология на деле либо ничего не меняет в воззрениях, либо превращает сторонников в фанатиков. Представляющаяся понятной и рациональной система ценностей — на деле просто ее отсутствие, которое еще и не нужно признавать. Не просто так под эгидой «во имя всего человечества» это самое человечество не построило ничего мало-мальски долгоиграющего, зато сумело очень дорого добиться совершенно бесполезных трофеев для галочки. Пожалуй, всего лучше такая идея выглядит в презентациях телефонов или других технологичных диковинок. Они хотя бы на самом деле бывают полезны, а то, что они созданы ради выгоды — не очень подходит к их имиджу.
Во имя себя
Перебрав и опошлив главные добродетели, настало время выйти за рамки традиционного и взяться за главный и, казалось бы, незыблемый источник здоровой мотивации в глазах социальных скептиков и циничных критиков — за разумный эгоизм. Сама биологическая эволюция подсказывает ответ на вопрос «во имя чего стоит жить». Во имя самой жизни, конечно! Ну, или более точно формулируя, во имя индивидуально доставшейся каждому части жизни, а проще — во имя себя.
С логической точки зрения, конечно, это все не очень корректно, тут попахивает circulus in probando , но давайте не погружаться в софистику, если хотя бы интуитивно эта мысль доступна для понимания. Жизнь самоценна, потому что «самосмысленна», так сказать.
Но даже так перед нами возникает масса новых вопросов, ничуть не облегчающих понимание и не упрощающих ориентирование в реальности. Например, справедливость, любовь, мечты и прочее — это разве не проявления той самой жизни и индивидуального Я, эту жизнь проживающего?

Если да, то где же тут новый смысл? Такой мнимый эгоизм — не более чем искусственная надстройка, камуфляж традиционных идеалов для тех, кому претит близость с ними без прослойки эгоистического латекса. А если нет, то это самое «во имя себя» — ограничено настолько, что возвращает нас даже не к примитивному, а к откровенно растительному, если не бактериальному существованию. Животные-то уже вполне подвержены всем этим «сладостным недугам», и радости чистого существования им явно недостаточно. Стоит только взглянуть на поведение несчастных созданий, искусственно ограниченных в любви или справедливости, чтобы никаких сомнений не осталось.
Со мной, уверен, могли бы поспорить приверженцы восточных религиозных практик, выступающих за отказ от низменных привязанностей и прочих болезней эго, но вот только они бы, наверное, не стали заступаться за идею жизни ради себя, ведь в этом самом «себе» они и видят проблему. Но тем не менее, давайте все же оценим, какие последствия ждут общество, живущее с такими идеалами.
Мы себя не знаем. По существу, жизнь во имя себя опирается на ложный постулат о естественном компасе, которые позволил бы отсекать навязанные извне ценности по критерию персональной выгодны. Понять, что именно выгодно — значительно сложнее, чем осознать, что любишь, или, скажем, ощущаешь справедливым. За рациональной выгодой не скрывается чувств. Легко спутать личную выгоду, например, с безучастностью. Нельзя же во имя себя бороться со злом, которому лично ты безразличен. Выходит, этого делать не нужно?
Себя нам недостаточно. Сама система размышления о сверхценности себя рано или поздно приводит к сравнению себя с другими. И, как бы ни воспевался в рациональном эгоизме куль гуманизма, мое Я для меня все равно будет ценнее чьего-то чужого. В этом суть эгоизма разумного или любого другого. Изъян, неизбежно создающий почву для вопроса, что допустимо совершать с чужими ради собственного блага. Не далеко и до вывода, что чужие — источник опасности, требующий искоренения. Вот только опасных чужих неограниченно много, искоренять их в одиночку не представляется возможным, нужны какие-то союзники, не чужие по определению. Так мы приходим к необходимости конструкта «свои» в противовес конструкту «чужие». И вот «я» — это уже мой социальный класс, мой народ, моя единоверцы, моя нация. Те, кто за меня, потому что подобен мне. Мы слишком социальны, чтобы не видеть очевидности такого группового эгоизма. Так и рождаются абсурдные на первый взгляд сущности вроде «пойти на смерть во имя себя», но так мы мыслим.
Мы себя не любим. И это, пожалуй, самая нерешаемая проблема всей системы ценностей рационального эгоизма. Интуитивно очевидное утверждение о естественном предпочтении себя всем прочим ценностям — ложно. Рисковать собой бывает очень приятно. Быть частью чего-то большего, чем я — еще приятнее. Нам подсознательно несимпатичны ипохондрики, уподобление которым по существу пропагандирует идеология «во имя себя». В подчеркнуто рациональной дискуссии о ценностях порой привлекательно в качестве позиции выбрать рациональный эгоизм, но на практике мы редко его придерживаемся. Поэтому в обществе поощряемого эгоизма так успешно развиваются радикальные группы и тоталитарные идеологии. За отсутствием альтернатив мы просто вынуждены искать отдушину среди доступных вариантов, а в токсичной среде выживают только самые радикальные. Так и получается, что идеология «во имя себя» может и рациональна, но мы — нет.
Нам такое сложно. Как и во всех сконструированных системах ценностей, следование их правилам — осознанное напряжение, сопротивление которому зашито в нашей биологии. Даже допустив возможность временного закрепления в общественной морали рационального эгоизма как ключевой ценности, ожидать его долгосрочной стабильности — по меньшей мере неоправданно. В основе своей такая система противоречит построению контрольных институций — хоть общественного характера, хоть религиозного, хоть какого-либо вообще. Сверхценность индивидуальности не позволяет. А без институтов общечеловеческая склонность не следовать сложным нормам возобладает над любыми выгодами.
В общем, в случае с эгоистическими ценностями, проблема заметно отличается от других сверхидей хотя бы тем, что эгоизм не очень выдерживает конкуренцию даже с самыми непривлекательными альтернативами, самопроизвольно скатываясь то к одним, то к другим крайним идеологиям. «Самопроизвольно», однако, не означает «неуправляемо». Поэтому периодам жесточайших и самых бесчеловечных режимов как правило предшествуют как раз такие эгоистические фазы с высоким уровнем атомарности в обществе и прочими вытекающими. Есть такое популярное выражение gateway drug, некое запрещенное вещество не столько вредное само по себе, сколько опасное создаваемым запросом на что-то «позабористее». Вот так и система ценностей «во имя себя» вредна не сама по себе. Это gateway ideology. Как говорится, предупердите детей.
Подводя итоги
Мы начали это путешествие с вопроса о том, какие силы живут в наших головах и порой выходят из-под нашего контроля, обращая нас в безумцев и чудовищ. Эти Древние Боги на самом деле не более чем идеи. Им мы поклоняемся и приносим жертвы. Они толкают нас в бездны и на них мы уповаем перед лицом неопределенности.
Было бы неправильно говорить, что мы перебрали их всех и поняли их злокозненную сущность.
Во-первых, за каждой большой идеей стоит что-то хорошее, привлекательное и человечное. Темные стороны идеологий — отнюдь не определяют их во всей полноте.
Во-вторых, мы разобрали не то что не все, но даже не какие-то основные большие идеи. Я намеренно не стал подавать их перечень как какую-то матрицу или, если угодно, пантеон, чтобы не вводить таким образом никого в заблуждение.
Спор о том, что есть и другие, по-настоящему хорошие, нужные большие идеи, или что перечисленные идеи неуместно оклеветаны, по моим представлениям, может быть бесконечным. Но интересно другое — основателен ли он вообще.
Как человечество, мы регулярно принимаем решения серьезно изменить свой образ жизни. От собирательства к земледелию. От покупки контента к стримингу. Эти изменения обоснованы наглядными и желанными возможностями для всех нас. Стоит помнить, однако, что переход к земледелию породил всю систему неравенства и войн, а в придачу еще и создал благоприятную среду для распространения болезней. Но с позиции собирателя всего этого видно не было.
Но появление больших идей — это не естественный порядок вещей, это очередное решение измениться. Мы посчитали, что ради новых возможностей нам нужен общий смысл жизни и даже успели начать преобразовывать свои умы так, чтобы он в них вмещался. Продолжая метафору, мы раскрыли свой разум силам, большим чем мы сами. Но стоило ли оно того?
Может вместо идеологий нам стоило бы довериться своим инстинктам, разуму и чувствам, а не институциализировать оценку добра и зла? И перед тем как ты, тонко чувствующий читатель, возмутишься моей проповеди морального хаоса, я предложу тебе задуматься, кто больше выигрывает от систематизации моральных ориентиров, Добро или Зло?
Склонны ли мы в отсутствие явных ориентиров поступать бесчестно и разрушительно? Сложно сказать однозначно, но мы точно дожили до эпохи цивилизаций, преодолев сотни тысяч лет доисторической эпохи уже будучи вполне теми же людьми, какими являемся сегодня.
Готовы ли мы сейчас как человечество приклониться новым богам, чтобы выяснить, чьи добро и любовь сильнее, чья справедливость вернее, а мечты реальнее? Полигон ли мы для битвы высших сил, или может быть нам просто достаточно себя? На этот вопрос каждому предстоит ответить самому.