Человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные. «Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!» [...] кончится тем, что они принесут свою свободу к ногам нашим и скажут нам: «Лучше поработите нас, но накормите нас». Поймут наконец сами, что свобода и хлеб земной вдоволь для всякого вместе немыслимы, ибо никогда, никогда не сумеют они разделиться между собою! [...] Получая от нас хлебы, конечно, они ясно будут видеть, что мы их же хлебы, их же руками добытые, берем у них, чтобы им же раздать, безо всякого чуда, увидят, что не обратили мы камней в хлебы, но воистину более, чем самому хлебу, рады они будут тому, что получают его из рук наших! [...] Мы дадим им тихое, смиренное счастье [...] Мы убедим их наконец не гордиться [...]; докажем им, что они слабосильны, что они только жалкие дети, но что детское счастье слаще всякого. Они станут робки и станут смотреть на нас и прижиматься к нам в страхе, как птенцы к наседке. И не будет у них никаких от нас тайн.
Ф. М. Достоевский. Великий инквизитор
Никто не знает ответа на вопрос, существуют ли законы общественного развития или же историю творит свободная воля. Нам неизвестно, в какой степени проблемы, с которыми приходится сталкиваться странам европейской культуры, — как Западу, так и России, — возникли естественным образом, а в какой — стали результатом наших сознательных, но неверных решений. Если уж на то пошло, сами понятия естественности и неестественности трудно определить. Социалиcтическое мировоззрение вернулось к нам незаметно, — то тут, то там, понемногу, — под разными именами и во многих формах. В России это «вертикаль власти», о которой непонятно, насколько она вообще вертикальна, на Западе — «социальная справедливость». Многие из нас в той или иной степени уверовали в государство и видят в нем, с одной стороны, источник всех общественных проблем, с другой — универсальный инструмент их решения. Вполне возможно, что эта тенденция закономерна и обратить ее вспять не удастся.
В России мы ощущаем последствия явно: заводятся уголовные дела «для галочки», экономика не способна слезть с «нефтяной иглы», а любой бандит, дорвавшийся до власти, может использовать деньги налогоплательщиков для осуществления своих бандитских намерений (классики предупреждали, что расширение бюрократического аппарата и усиление государственного вмешательства могут привести к угасанию политических свобод и предпринимательского духа). От долгосрочных же последствий, культурных и демографических, не застрахована ни одна страна, и в той же мере, что и России, они касаются Запада, многие жители которого готовы — из самых лучших побуждений! — променять творческую энергию, свободу и культуру на социальные гарантии. В конце концов, рынок, наладить который Россия никак не может и который обвиняют во всех бедах западные левые, — не единственный признак свободного общества. Можно рассматривать все эти проблемы вместе: в идеологическом смысле они cходны. Теперь вряд ли существует угроза тоталитарной диктатуры, однако мы рискуем оказаться или уже отчасти оказались либо под властью проходимцев и бюрократов, либо, наоборот, в запрограммированных городах, где у человека не останется никаких тайн от власти (пусть даже честной, эффективной и мягкой), а каждый его шаг будет расписан наперед. Хотя это лишь одна из множества мыслимых антиутопий (а кое-кто скажет, что и не самая правдоподобная), ее можно вывести из распространенных ныне идеалов, и интересно посмотреть, каким образом некоторые люди, иногда сами того не сознавая, стремятся к ее строительству.
Борьба с предрассудками
По «левакам» не прошелся только ленивый: для консерваторов они все равно что красная тряпка. Однако, на мой взгляд, консерваторы, цепляясь к внешним атрибутам левой идеологии (таким, как уважение к меньшинствам, государство всеобщего благосостояния, терпимость к извращениям, контроль рынка и т.д.), упускают главное, что в ней есть, — мистически-священную веру во власть. Ведь вообще-то нет ничего плохого в том, чтобы уважать меньшинства или делиться с бедными. Даже участие государства в процессе перераспределения само по себе не предосудительно: например, умеренно-социалистическая программа folkhemmet (страна как дом для народа), кризис которой был вовремя осознан и преодолен, не помешала Швеции сохранить политическую свободу и инновационный потенциал и стать одной из самых благополучных стран мира, поскольку, во-первых, граждане поддержали перераспределение от чистого сердца, а, во-вторых, достаточными оказались щедрость и предприимчивость высшего слоя общества, умудрившегося создать фирмы мирового класса в условиях уравниловки.
Другое дело, что левые на этом не останавливаются, по крайней мере, в теории; им кажется, что если такая договоренность не достигнута (или достигнута, но кажется им несовершенной), то все дело в происках врагов, ошибках системы или гнете традиций, и государство должно решить все вопросы сверху: организовать, защитить, распределить. Они хотят поставить людей в зависимость от государства, сделать их как бы его домашними питомцами. Выделив, таким образом, ядро социализма, мы обнаружим, что он пропитал общественное сознание как в России, так и на Западе. Под это влияние попадают даже те, кто именует себя «консерватором» или «правым», и именно поэтому подъем консервативных партий в Европе не слишком обнадеживает.
На примере западной интеллигенции и молодежи легко видеть, что вместе с университетским образованием человек часто приобретает определенную систему взглядов. Он начинает разделять мир на «рациональных прогрессистов» и «нерациональных консерваторов»: мол, с одной стороны есть разумные ученые и угнетенные меньшинства, а с другой — нехорошие дяди, которые мешают восторжествовать миру во всем мире и дурят бедных людей религией и предрассудками. Роль мирового зла в этой модели выпадает традициям, политикам и богатым. В ней есть место одним фактам (например, что человек есть продукт эволюции), но нет места другим (например, как теория эволюции объясняет существование некоторых традиций, а также гендерных и расовых различий).

Презрение к традициям, патриотизму, даже рыночной системе и тому подобным «пережиткам прошлого» очень характерно даже для лучших ученых: они не могут понять, почему люди не ведут себя, как цифры или винтики машины, а верят в богов и воюют. За примерами далеко ходить не надо: Эйнштейн известен как проповедник социализма, Хокинг голосовал за лейбористскую партию. Многие талантливые успешные люди, придерживающиеся левых взглядов, попадают в ту же категорию — им свойственно желание раскладывать всё по полочкам. Этот феномен детально рассмотрен экономистом Фридрихом фон Хайеком в книге «Пагубная самонадеянность» (а именно в этой главе). Даже самому одаренному человеку не следует доверять в том, что не касается его области компетенции; как максимум — относиться с уважением. К несчастью, тенденцию ученых быть левыми легко использовать в качестве аргумента в пользу этой идеологии, хотя на самом деле здесь мы имеем место с «злоупотреблением разумом», а не с плодами научного знания.
Большинство обладателей левых взглядов, впрочем, не добирается до высоких материй, а ограничивается отрицанием традиций, которые, по их мнению, — продукт предубеждений и фантазий. Взамен они выбирают себе новую религию — «справедливость». Действительно, традиционные ценности западного общества, такие, как патриотизм, свободный рынок, свобода слова и уж тем более разделение ролей между мужчиной и женщиной, не логичны в том смысле, который поверхностно осведомленный человек в это слово вкладывает. Наиболее глубинные из них (например, взаимоотношения полов; моногамные семьи и культ прекрасной дамы и верной жены, которые прошли в неизменном виде даже через тоталитаризм XX века) представляют собой адаптации, возникшие эволюционным путем, инстинкты, носители которых оставляли больше потомства в отсутствие государственного контроля и какой-либо помощи. С другой стороны, никакие взгляды на историю, политику или мораль нельзя обосновать, не расставив приоритеты: любовь ко всему человечеству, чернокожим или только к себе самому не более и не менее «рациональна», чем любовь к своему народу и своей культуре. Патриотизм, например, — тот же племенной инстинкт: в том, кто похож на нас и придерживается тех же культурных норм, мы склонны видеть родича. Левые думают, что избавились от предрассудков, включив в понятие «племени» все человечество, но в действительности заменили их другими, менее заметными. Они не видят, что если какой-то народ спивается и отвергает размножение и свою культуру, — на его место приходят другие, и совсем не факт, что эти другие тоже будут озабочены философскими вопросами. Ответственность за последствия, конечно, как и в других вопросах, окажется возложена на государство. Например, поддерживаемые интеллигенцией плановые меры европейских правительств в сфере перераспределения доходов и защиты меньшинств приводят к тому, что эти меньшинства, не появившиеся бы в других условиях, сами начинают составлять угрозу свободе (примером чего служит расстрел «Шарли Эбдо» за религиозные карикатуры); в итоге от государства требуют вмешаться снова и разрешить межнациональные конфликты.
Когда много зарабатываешь и образован, может быть даже приятно думать о себе как о благодетеле и о толерантном человеке и отстегивать пару процентов в пользу бедных. Это становится как бы общим правилом хорошего тона. В лице левой интеллигенции мы теряем тех, кто мог бы оказать громадную помощь в деле сохранения европейской культуры и свободы, однако не хочет этого делать, ибо это бы противоречило их взглядам. Вместе с тем они предпочитают не замечать покушений на их собственный образ жизни, исходящих от меньшинств.
Отрицание свободы
О злободневных вопросах левые рассуждают примерно так: убийца не знал, что убивать плохо — его в детстве плохо воспитали. Глупец не родился таким — учитель не смог найти к нему подход. Наркоман пристрастился к наркотикам потому, что его не предостерегли вовремя, или потому, что не нашел иного выхода из «трудных жизненных обстоятельств». Рабочий или пенсионер не виноват в своей нищете: его обмануло правительство, или ему не повезло родиться в неблагополучной стране, или его родители были алкоголиками, или он не имел доступа к высокой культуре, или государственные выплаты слишком малы, или чиновники воруют. Все расы равны, а если одни стабильно показывают худшие результаты в науке и искусстве, чем другие, то это из-за угнетения. И, наконец, апогей: девочки играют в куклы, а мальчики — в солдатиков, потому что такие стереотипы им навязывает общество; среди женщин меньше великих ученых из-за дискриминации, а не из-за того, например, что для мужчин характерен больший разброс врожденных свойств организма, то есть среди них, возможно, больше как гениев, так и дураков.
Итак, социалисты отрицают свободу воли: они уверены, что некая внешняя сила, будь то «воспитание», «политики» или «общество» (за всеми этими эпитетами скрывается государство) может формировать сознание человека. По их мнению, мир расцветет, если мы, наконец, сумеем заставить эту силу работать правильно, в соответствии с некоторым разумным планом. Отметим, что даже с философской точки зрения их концепция внутренне противоречива: во-первых, никакой план действия не бывает полностью разумным и бесстрастным, потому что ценности не являются законами природы; во-вторых, – и это самое важное, – добро и зло ничего не стоят, если человек совершает их по чьей-то указке. Робот, винтик машины, исполнитель приказов не может быть добрым или злым.

Однако, как отмечалось выше, для традиций, от которых отмахивается прогрессивная общественность, как раз то и характерно, что в большинстве своем они являются не продуктом сознательного планирования, но естественным следствием инстинктов. Поэтому безличная власть традиций или диктатура бюрократической машины государства, — выбор сродни выбору между рынком и командной экономикой. Можно задержаться на полпути, но дорога от свободы к рабству не ветвится. Это не значит, что мы должны слепо подчиняться традициям; это значит, что они мало-помалу вернутся, если государство не будет сопротивляться (возможно ли на практике раскрутить гайки до такой степени, чтобы сами собой восстановились, например, рождаемость и институт семьи, — отдельный вопрос). А все те требования, которые выдвигают и исполнения которых уже добились левые и идеологически близкие к ним деятели, осуществимы только посредством избирательного государственного контроля. Семьи приводят к неравным условиям развития детей? Вмешаться в семейную жизнь: отнимать детей у неправильных родителей, платить тем, кто сам не может обеспечить потомство всем необходимым (разумеется, за счет тех, кто может). Женщины и чернокожие менее успешны, чем белые мужчины? Заставить работодателей нанимать женщин и чернокожих. Люди вообще добиваются разных результатов в работе? Зарегулировать рынок труда так, чтобы даже идиоты могли получать зарплату, соответствующую чьим-то представлениям о справедливости.
Таким образом, за тем, что именуют бунтом против предрассудков, скрывается желание снять с индивида ответственность за результаты его собственной жизни. Люди обосновывают простые потребности вроде стремления к защищенности и стабильности (пускай не для самих себя, а для других) якобы научными данными, а теории — лишь декорация. Это соответствует настроениям молодежи, которая также, по-видимому, склоняется к социализму: не зная, что такое настоящая бедность, миллениалы в странах первого мира считают, что рыночная система не гарантирует им достаточной защищенности и одобряют государственное вмешательство. В Австралии те, кто думает, что капитализм провалился, составляют большинство; в Америке они перестали относиться к социализму с предубеждением; про успехи социалистов вроде Окасио-Кортес многие слышали; впрочем, кое-кто уверяет, что все это выдумки консерваторов, желающих набить себе цену, и волноваться не о чем.
Информационный шум суммирован в очередном отчете Еврокомиссии (2017-2018), где в числе прочего указывается (стр. 16), что 81% европейцев так или иначе поддерживают (agree) дальнейшее сокращение неравенства доходов, причем 41% поддерживают полностью (strongly agree); только 8% против. 40–50% респондентов считают увеличение социального равенства наилучшим ответом на глобальные вызовы, тогда как в пользу рынка высказываются 20–30%.
Интересно отметить изменение формулировок в вопросе о бедности: в отчете 1977 года как одна из пяти возможных причин упоминалось отсутствие силы воли (laziness and lack of willpower, стр. 71), и 25% респондентов выбрали ее. В 2007 это звучало уже как «бедные не прикладывают достаточно усилий» (they don’t do enough to get by, стр. 35) среди тринадцати оправданий, и только 14% согласились с этим утверждением. В новоязе 2010 года ближайшие по смыслу варианты — «отсутствие необходимого образования и навыков» (lack of education, training and skills, стр. 8, 37%) и «жизнь не по средствам» (20%), т.е. упоминания личной ответственности постарались избежать.
Кто же возьмет на себя брошенную ответственность? Левые говорят «общество», но, конечно, речь идет о государственной системе; говорят: «власть народу», но подразумевают власть государства над народом. Снимая ответственность с индивида, мы даем чиновникам повод распоряжаться, командовать, взимать с нас больше налогов и так далее.
Пчелы против меда
Конечно, российский режим никак нельзя обвинить в чрезмерном внимании к правам меньшинств и бедных. В результате его необоснованно относят к правым и консервативным. Некоторые европейские наблюдатели даже говорят о «неолиберализме в России». Противостояние левых и правых вообще часто преподносится как конфликт славного социалистического будущего с грязным прошлым, где невежество, чума и костры инквизиции. Как «прогрессистам», так и их оппонентам свойственно сваливать в одну кучу Трампа, Путина, Себастьяна Курца, Виктора Орбана и всех, кто позиционирует себя как консерватор и патриот. Это уже привело к тому, что в изложении политкорректных медиа стало нелегко отличить маргиналов-неонацистов от собственно консерваторов; сами консервативные партии, по-видимому, страдают от того, что их антииммигрантская риторика привлекает в их ряды радикалов. Российские же провластные СМИ, в свою очередь, не любят западных левых, и это похоже на вражду братьев, не подозревающих о своем родстве. Маркс писал о повторении истории в виде трагедии и в виде фарса; можно сказать, что нынешняя ситуация чем-то напоминает 1910–1920-е, когда боролись друг с другом нацисты и коммунисты, — и те, и другие отказывались признать, что их идеалы родственны.
На примере российских уголовных дел за «оскорбление чувств» и «экстремизм» легко видеть, насколько в действительности западные левые SJW идеологически близки нашему режиму (который, в свою очередь, — наследник социалистического строя). Многие их начинания выглядят как пародия, эдакая тень российских событий: швейцарские социалисты добились признания гомофобии преступлением, англичанина посадили за разжигание ненависти по религиозному признаку (ему не понравились теракты), в Австралии приняли закон о защите геев от хейт-спича. К счастью, демократическая процедура не позволяет превратить это в игру в одни ворота. Как бы то ни было, общая и самая главная черта SJW и российской бюрократии — желание предотвратить преступление с помощью государственного запрета всего, что может к нему привести, и не оставить человеку свободы выбора. Например, с помощью цензуры воспрепятствовать самоубийствам или терроризму (а если терроризм и самоубийства остались, несмотря на цензуру, — что ж, мы ведь хотели как лучше). Как в советском анекдоте: «У него вредный образ мыслей! — А что он сказал? — Я его арестовал раньше, чем он успел что-либо сказать!» Суть не меняется от того, что в случае России социалистическое законотворчество происходит из желания чиновников подчеркнуть собственную значимость, — конечно, ведь люди без них не смогут! — и украсть при этом как можно больше. Они хотят связать человека по рукам и ногам так, чтобы он не мог ни подумать, ни сказать, ни сделать ничего неправильного. Они хотят превратить его в винтик машины.
У российской оппозиции и прогрессивной общественности сложно наблюдать эти же идеи в чистом виде, поскольку СССР распался не слишком давно, и слово «социализм» вызывает либо смутные ассоциации с тоталитарным гнетом, либо, наоборот, ностальгию по пионерскому детству и каким-никаким социальным гарантиям (что не мешает социализму просачиваться в новых формах). До поры до времени политически небезразличных образованных людей заботит протест против коррумпированного режима, и многие из них не задумываются, левые они или правые, что бы за этими словами ни скрывалось. Однако думаю, что они все-таки относятся к социализму благосклонно, хотя и не говорят этого прямо. Они просто недовольны тем, как именно нынешнее правительство «берет всё и делит», но сам лозунг им близок: ведь хочется, чтобы было, «как на западе». Впрочем, здесь обобщать не берусь, приведу только пример: некоторые считают, будто именно государство и общество виноваты в бедности значительного числа многодетных семей (пара заметок). Альтернативное объяснение, состоящее в том, что проблема проистекает из личного поведения людей и что бедные склонны рожать больше, поскольку менее ответственны, представляется некоторым, если не большинству, кощунственным (как, например, здесь). А вот цитата, касающаяся причин бедности и настолько типичная, что ее стоит выписать целиком: «зарубежные исследования показывают, что дети, выросшие в бедности, с большей вероятностью так и остаются бедными, потому что у них отсутствовали стартовые условия, чтобы занять в жизни лучшую позицию». Между тем другие исследования (например, разлученных близнецов) показывают, что такие качества, как интеллект, доход и уровень образования во многом предопределены наследственностью (есть известная книга «The Bell сurve» на эту тему).
Взгляды россиян на «правильное» государство во многом похожи на европейские. Забавно только, что те же стремления, которые мы в самих себе давно уже привыкли высмеивать как тоску по «сильной руке», очень легко начинают казаться святой истиной, будучи изложены языком западных борцов за справедливость и счастье. Трудно понять, что главное отличие — в практических результатах, а идеи, за ними стоящие, одинаковы. Согласно недавнему исследованию ФОМ, идею прогрессивного налога одобряют 78% россиян. Еще 59% уверены, что различие в доступе к предметам роскоши в принципе несправедливо (только 27% определенно несогласны). За насаждение справедливости сверху, посредством государственного воздействия, высказываются 62% (против 25%). За национализацию добывающих отраслей выступают 56% (против 18%). Стремление к дележу, впрочем, ниже у богатых, образованных и горожан.
В нынешней ситуации россияне полагаются в основном на себя и на своих близких (50–60%), и, если забыть об украденных миллиардах, здесь можно увидеть повод для радости. Однако, как показывают опросы на протяжении последних 20 лет, 50–60% считают, что государство должно обеспечивать граждан всем необходимым, а еще 25% — что оно должно активно поддерживать их. Советский строй кажется нашим согражданам более привлекательным (30–45%), чем нынешний режим и западные демократии. Только 3% хотели бы обойтись без помощи государства (интересно было бы взглянуть на распределение представителей этой группы по уровню доходов).
Социалистические заблуждения настолько прочно укоренились в общественном сознании как в России, так и в Европе, что даже споры между, казалось бы, непримиримыми оппонентами ведутся о том, как государство должно распоряжаться судьбами людей, — например, чему учить граждан, как перераспределять доходы и как защищать границы от врагов и иммигрантов. Явно или неявно предполагается, что самостоятельных решений люди принимать не могут. Как слева, так и справа из соображений безопасности готовы доверить государству вещи, которых в свободном обществе оно попросту не должно делать. Социальные рейтинги, тотальное видеонаблюдение, беспрепятственный доступ третьих лиц к переписке, — вот чем обернется готовность людей допустить государство в свою жизнь, чтобы получить гарантии безопасности. Всё это сделает стены спален прозрачными и потому несовместимо с традиционными европейскими идеалами свободы.
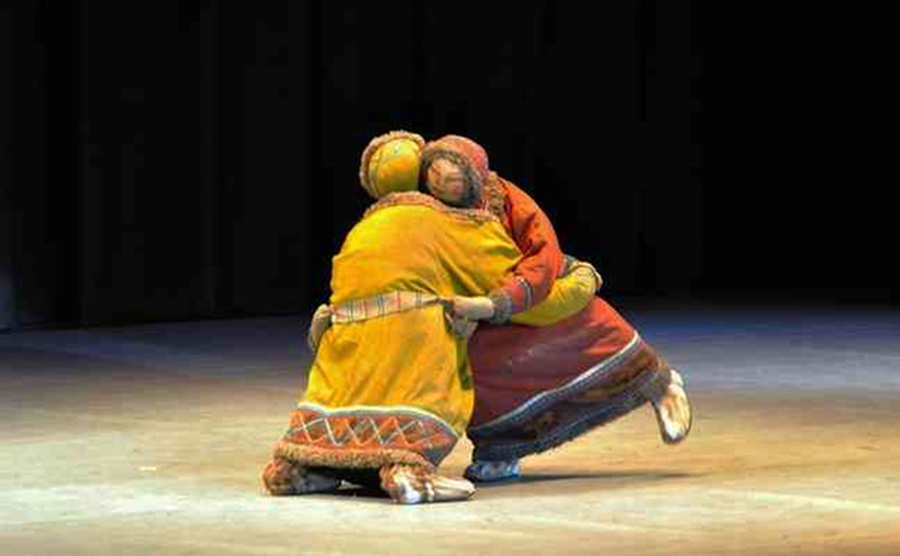
Подозреваю, что на самом деле у большей части «консерваторов» как в России, так и в Европе нет непреодолимого разногласия с их противниками. В Европе много говорят о немецкой партии AfD, программа которой вполне разумна: свободный рынок, cвобода слова, снижение налогов и субсидий, ограничение иммиграции, поддержка рождаемости, сохранение национальной культуры, уменьшение зависимости индивида от государства, — и это написано в программе партии прямым текстом (на официальном сайте есть русская версия). Однако из этого списка и левые, и правые слышат только слово «мигранты» (вот исследование, сделанное, по-видимому, левыми, где показано, что успех AfD коррелирует с числом беженцев; число ссылок в Google по запросу AfD immigration на 1 ноября 2018 — около 2 млн, AfD ”free market” — около 70 тысяч, AfD capitalism — около 270 тысяч, — то есть обсуждают не то, о чем, собственно, программа партии). Таким образом, можно предположить, что многие избиратели правых партий представляют собой таких же социалистов, желающих получить от государства гарантии. Стоит, впрочем, признать, что в данном случае этот расчет на государство несколько более обоснован: в конце концов, охрана границ и личной безопасности граждан — его исконная задача; ведь нельзя же требовать, например, роспуска полиции или армии, борясь с вмешательством в жизнь людей.
Вероятно, путаница терминов в противопоставлении правых и левых, консерваторов и либералов отчасти вызвана произошедшей подменой понятий. Вспомним старую терминологию, в которой слово «либерал» было синонимом современного «консерватора» и обозначало сторонника традиционных ценностей, свободы личности и свободы торговли, а под «социалистом» понимали сторонника плановой экономики и тоталитарного контроля. Милтон Фридман уже в 1962 году отмечал, что «Лозунгом либерализма стала не свобода, а благосостояние и равенство. Либерал XIX века считал наиболее действенным средством повышения благосостояния и достижения равенства расширение свободы; либерал XX века считает благосостояние и равенство предварительными условиями свободы или ее альтернативами. [...] В связи с извращением термина “либерализм” мировоззрение, которое раньше носило это название, сегодня нередко обозначают словом “консерватизм”». (Капитализм и свобода) То есть современные социалисты, совершенно в духе Оруэлла, называют себя либералами, — тем словом, которое изначально обозначало их полную противоположность. Ведь, в конечном итоге, не важно, поощряет ли государство меньшинства или притесняет их; важно, что оно берет на себя смелость диктовать людям, что они должны думать и как действовать, и подменяет законы рынка представлениями властных лиц о том, что такое хорошо и что такое плохо.
Выбирайтесь своей колеей
Мир не делится на либералов и консерваторов. Он делится на тех, кто считает, что человек наделен свободной волей, и тех, кто уверен, что человек сам не справится, и поэтому надо его воспитать, защитить и загнать в рай дубиной. Рост социалистических настроений в европейском мире на протяжении последних двух столетий, приостановленный, пожалуй, только крахом СССР, заставляет думать, что мы наблюдаем действие некого закона психологии. Стоит лишь установиться достатку и свободе, — а ведь и Россия по сей день остается относительно благополучной страной, — люди начинают воспринимать их как нечто само собой разумеющееся; вместе с тем становится все больше тех, кто хотел бы избавиться от ответственности. Внешние проявления этого, будь то патриотическая истерия или вера во всеобщее равенство людей, могут быть различны. Сложно вообразить, чтобы кочевой первобытный охотник стал рассуждать о том, что некая организация должна командовать им или обеспечивать его, — он рассчитывал лишь на себя и близких. В условиях же централизованного производства и зависимости от машин человек не решается положиться на свой свободный труд и просит от государства приказов и гарантий, а предприниматели и деятели культуры ориентируются на массовое потребление, боясь задеть чувства тех или иных общественных групп. Несмотря на то, что свободная конкуренция способствовала росту благосостояния масс, относительное неравенство имеет тенденцию расти вследствие технического прогресса и процессов накопления, что также подрывает веру человека в свои силы; ему начинает казаться, что его выбор – это выбор между социализмом и олигархией.
Как бы то ни было, значительная часть политически активного населения как в России, так и на Западе не в ладах со свободой, а интеллигенция к тому же пытается замаскировать бегство от усилий теориями рациональности и гуманизма. Как выразился по сходному поводу Хайек еще 80 лет назад, они сосредоточились на некой идеальной системе, в которой государство организует все идеальным образом. Они хотят себе доброго деспота, «великого инквизитора», бога из машины, — и готовы допустить государство в личную жизнь, лишь бы оно работало эффективно. «Накормите, тогда и спрашивайте добродетели; поработите нас, но только накормите нас», — говорят они. Иногда кажется, что им больше пришлась бы по вкусу китайская модель с капитализмом как осознанной необходимостью и вездесущим правительством, чем традиционная европейская свобода.
Все это не вселяет оптимизма и веры в светлое будущее. Мы должны если и не нарушить исторический закон, то по крайней мере преодолеть общественное предубеждение посредством увещевания. Чем раньше Россия и Запад поймут единство своих интересов и культур и избавятся от заблуждений, тем лучше.












