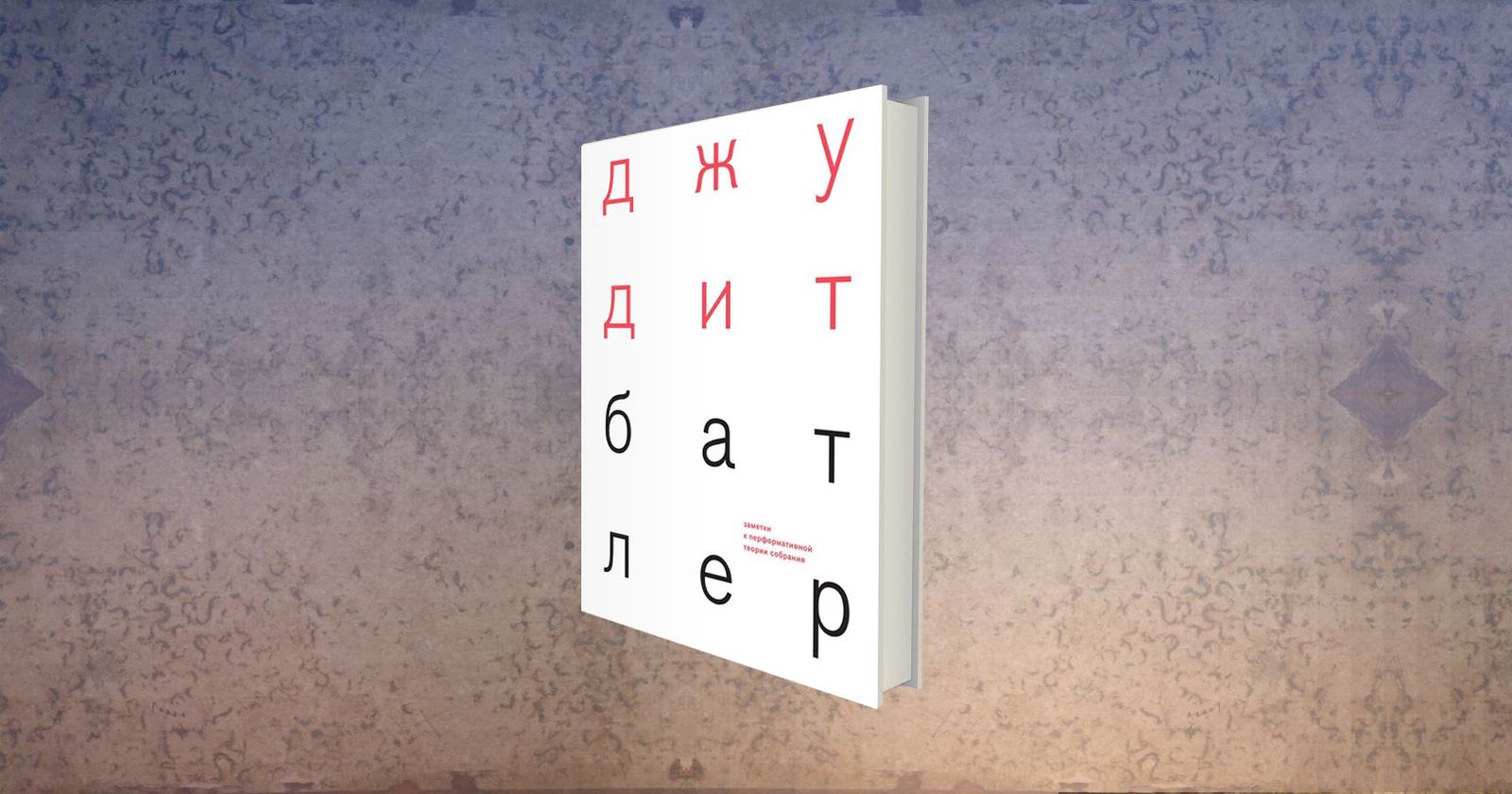«Дискурс» публикует главу из книги Джудит Батлер «Заметки к перформативной теории собрания», которая вышла в этом году в переводе Дмитрия Кралечкина в рамках совместной издательской программы «Ад Маргинем Пресс» и музея «Гараж». Выдающийся философ развивает свою теорию перформативности гендера, осмысляя ее в контексте публичных собраний. Какова роль тел в демократическом процессе и публичном пространстве? Как могут делать заявления и предъявлять требования группы, чьи слова и тела обесценены и дегуманизированы — мигранты, транссексуалы, расовые меньшинства, заключенные, люди с ограниченными возможностями? Как осмыслить взаимосвязь между перформативностью и прекариатом?
Сам по себе выход книги Батлер на русском языке — событие чрезвычайно значимое, и трехлетнее запоздание — уже большой шаг вперед: последний раз русскоязычные читатели увидели новую книгу американского философа 16 лет назад, в перерыве были вынуждены довольствоваться лишь парой разрозненных текстов в сборных изданиях, а русский перевод общепризнанных шедевров Gender Trouble и Bodies That Matter за четверть века так и не вышел. К счастью, Батлер напоминает основные постулаты теории перформативности гендера в «Заметках…», что для русскоязычной публики особенно важно. В новой книге она остается верна тезису bodies that matter: тела по-прежнему имеют значение для радикальной демократии; они по-прежнему могут говорить, даже когда лишены голоса, ценности и видимости; занятие публичного пространства, как показали Арабская весна и движение Occupy, может быть красноречивее любого речевого акта.
Это важно для понимания второй ключевой темы в «Заметках…»: политического действия в условиях прекариата, когда сама достойная жизнь с личной безопасностью, стабильным трудоустройством, жильем, здравоохранением и питанием становится предметом политической борьбы — происходит ли это в режиме западного неолиберализма, израильской оккупации или египетской диктатуры. Если политика, согласно Арендт, — это совместное действие на принципах равенства, то совместное появление в публичном пространстве и есть перформанс политического: тела, которые каждый день вынуждены доказывать свою равную ценность, заявляют о своих правах самим фактом выхода в публичное пространство, стирая грани между приватным и общественным. Важность этой мысли состоит в том, что артикулированные политические требования если и не отходят на второй план, то, во всяком случае, становятся лишь частью материализованного протеста. Движение Occupy, например, так и не смогло внятно сформулировать свои политические задачи и идентичность, но сумело хотя бы на некоторое время символически заявить о своем праве на городское пространство, оккупированного логикой рынка и консюмеризма, и тем самым задать этому физическому пространству новые (политические) смыслы. Российская политика может не особенно занимать Батлер, но ее размышления о телесности публичных собраний способны подсказать новые ответы тем демократическим активистам и интеллектуалам, которые считают первостепенной задачей артикулирование идентичности российского протестного движения — и, быть может, предложит свежий взгляд на старые вопросы.
«Мы, народ»: размышленияо свободе собрания
«Мы, народ» — так начинается преамбула Конституции США, которая, как считается, начала правовое отдаление США от Британии, но эту фразу также неявно цитируют участники множества народных собраний, не имеющих отношения к правовой системе США, или, например, Этьен Балибар в названии своей книги «Мы, народ Европы?» В действительности как таковую эту фразу высказывают и записывают редко, но не передается ли ее перформативная сила другими средствами? В своем рассуждении в этой главе я буду вдохновляться не только движением Occupy, но и другими видами собраний, которые появляются именно тогда, когда публичное пространство распродается или подвергается контролю, и которые выступают за доступ к образованию, как в Чили, Монреале и по всей Европе, где студенты выступают против новых сокращений бюджета на образование и против стандартизации оценки эффективности университетов. Хотя я и не хочу сказать, что все эти собрания похожи друг на друга или, наоборот, обнажают совершенно одинаковые ограничения.
Какими средствами предъявляется притязание на публичное пространство? Если народ не всегда именуется и объединяется языком, возможно, для этого подходят другие, телесные средства: молчание, совместное движение, неподвижность и то постоянное скопление тел в публичном пространстве, и днем, и ночью, которое было характерно для движения Occupy? Видимо, недавние собрания подталкивают нас пересмотреть собственные представления о публичном пространстве, чтобы учесть те формы альянсов и солидарности, которые лишь частично зависят от способности появляться на общественной площади. Конечно, известное утверждение Арендт заключалось именно в том, что политика требует не только пространства появления, но и тел, которые появляются. С ее точки зрения, такое появление выступает предварительным условием речи, но только публичная речь на самом деле считается действием. В революциях, как она утверждает, присутствует определенное совместное действие или множественное действие. Но могла бы она согласиться с тем, что множественное движение тел само выражает этих «мы», эту множественность, считающуюся столь важной для демократии? Как понимать общественное собрание в качестве политического активирования, отличного от речи?
Есть много примеров скопления людей, которое образует способ говорить от лица коллектива, требует изменений политического курса и обнажает нелегитимность государства или крах правительства. Хотя площадь Тахрир какое-то время была символом демократической власти публичных собраний, мы видели, что контрреволюционные силы насаждают свои собственные представления о том, кто является «народом», и при этом натравливают на людей полицию и военных, которые атакуют их и бросают в тюрьмы. Таким образом, если мы возьмем этот пример в качестве ориентира для нашего размышления, то увидим, что ни одно народное собрание не может представлять народ целиком, а каждое утверждение народа собранием вызывает определенные конфликты, которые, в свою очередь, порождают ряд сомнений относительно того, кто же на самом деле является народом. В конце концов, согласимся с тем, что ни одно собрание не может с полным правом стать основой для обобщений касательно всех собраний, а любая попытка связать определенное восстание или мобилизацию с демократией как таковой является своего рода соблазном, привлекательным, но тупиковым, поскольку прерывает тот конфликтный процесс, благодаря которому формулируется и обсуждается идея народа. В некотором смысле эта проблема является эпистемологической: знаем ли мы вообще, кто такие собравшиеся на улице «мы», и действительно ли какое-либо конкретное собрание представляет народ как таковой? Может ли какое-либо конкретное собрание представлять то, что мы имеем в виду под свободой собрания как таковой? Любой пример непоказателен, однако определенные темы постоянно повторяются, позволяя нам приблизиться к тому, как предъявляется притязание «мы, народ». Порой это откровенная борьба за слова, политические означающие, образы или описания. Однако еще до того, как та или иная группа начнет обсуждать этот язык, уже произошло скопление тел, которое тоже говорит, но как-то иначе. Собрания утверждают и активируют сами себя в речи или молчании, действием или продолжительным бездействием, жестами, скоплением тел в виде группы в публичном пространстве, организованном определенной инфраструктурой, — видимым, слышимым, ощутимым, осознанно и в то же время невольно беззащитным скоплением, в котором тела вступают в спонтанную и одновременно организованную зависимость друг от друга. Будем поэтому с самого начала исходить из того, что группа собирается вместе в качестве «народа» не за счет конкретного и точечного речевого акта. Хотя мы часто думаем, что декларативный речевой акт, благодаря которому «мы, народ» утверждает свой народный суверенитет, является тем актом, что исходит от такого собрания, возможно, правильнее будет сказать, что собрание говорит еще до того, как изрекает какие-либо слова, что посредством скопления оно уже является активированием народной воли; и такое активирование порождает значения совсем не в том модусе, в каком единичный и единый субъект мог бы объявить о своей воле, высказав ее вслух. «Мы», оглашенное на языке, уже активировано собранием тел, их жестами и движениями, их голосами, их способом совместного действия. Действовать совместно — не значит действовать единообразно; в таком совместном действии люди движутся в одно и то же время в разные стороны или говорят о разном, даже противоположном. То есть это не значит, что они говорят в точности одни и те же слова, хотя порой такое случается в скандировании или в обсуждении на общих ассамблеях Occupy. Порой «народ» действует своим коллективным молчанием или иронией; юмор и даже насмешка перехватывают и возвращают язык, который люди хотят сдвинуть с накатанной колеи.
Здесь уже есть две идеи, которые я хотела бы подчеркнуть: первая состоит в том, что действия, которыми люди собираются или утверждают себя в качестве народа, могут высказываться или активироваться по-другому. Вторая — в том, что мы должны понимать такие акты как множественное действие, предполагая множественность тел, которые активируют свои схожие или различающиеся цели способами, не соответствующими единому типу действия или не сводящимися к единому типу требований. Важным для нас будет вопрос о том, как меняется политика, когда идея озвученных отдельными индивидами абстрактных прав уступает множественности воплощенных акторов, которые активируют свои требования порой за счет языка, а порой как-то иначе. Рассмотрим, как мы могли бы определить свободу собрания, учитывая это изменение концептуальной рамки. В каком смысле она является правом, и как ее требуют? Если она — право, что такого право сообщает о том, кто мы есть и кем могли бы быть? Право осуществлять свободу собрания сегодня закреплено в международном праве. Международная организация труда специально отмечает, что право на собрание (а также свобода ассоциаций) связано с правами на коллективные трудовые споры. Это означает, что люди собираются, чтобы обсудить условия труда, предъявить определенные требования касательно безопасности на рабочем месте, гарантий труда, защиты от эксплуатации, а также обсудить и само право на коллективные споры. Это право собирает рабочих вместе, и ни у кого нет права собираться без группы других, находящихся в структурно схожем положении относительно средств производства.
В определенных дискурсах о правах человека свобода собрания описывается как фундаментальная форма свободы, заслуживающая защиты со стороны государства, то есть правительства обязаны защищать эту свободу; парадокс в том, что государства должны защищать свободу собрания от государственного вмешательства, а это означает, что они несут на себе строгое обязательство воздерживаться от нарушений свободы собрания посредством нелегитимного применения полицейской и судебной власти, позволяющих задерживать, арестовывать, преследовать, угрожать, цензурировать, изолировать, травмировать или убивать. Как несложно понять, в этой формулировке изначально присутствует определенная проблема: зависит ли свобода собрания от гарантий силами государства, или она зависит от невмешательства государства? И есть ли у народа основание полагаться на государство в защите от государства? Существует ли это право только тогда, когда государство наделяет им свой народ, и лишь в той мере, в какой государство соглашается это право защищать? Если так, тогда нарушению государством этого права собрания нельзя противостоять, отстаивая право собрания. Мы можем согласиться, что источником свободы собрания не является естественное право, но не остается ли оно в каком-то важном смысле все же независимым от всякого государства? Не затмевает ли свобода самовыражения те акты государства, которыми она защищается и (или) нарушается, не пренебрегает ли она ими? Эти права не зависят, да и не могут зависеть от государственной защиты в тех случаях, когда легитимность правительства и государственной власти ставятся под вопрос народным собранием или когда определенное государство вмешивается в право на собрание таким образом, что его население не может свободно сходиться вместе, не подвергаясь опасности государственного насилия, в том числе военного и полицейского. Кроме того, если власть государства по «защите» прав подразумевает власть отозвать эту защиту, а люди осуществляют свободу собрания, чтобы опротестовать такую форму произвольной и нелегитимной власти, которая наделяет защитой и лишает ее по своему усмотрению, значит свобода собрания в какой-то мере выходит за пределы юрисдикции государственного суверенитета. Один из аспектов государственного суверенитета состоит именно в этой способности приостановить защиту прав населения. Может быть, это и так, но ответом тут будет представление об утрате свободы собрания в качестве права, когда государство противостоит целям собрания и намерено лишить его законной силы. Как мы знаем, такое случается, когда государство участвует в расширении рынков и передает социальные службы финансовым институтам, превращая тем самым общие блага в потребительские товары или инвестиционные возможности. Движения против приватизации нацелены остановить насыщение государства рыночными силами. Такие движения часто начинаются с призыва поставить под вопрос легитимность государства, присвоившего себе авторитарную власть — сегодня уже никто не считает, что свободный рынок способствует демократии, как заявлял Милтон Фридман во времена Пиночета в Чили. В случаях, когда приватизация и авторитаризм встречают отпор общества, государство использует свои военные, полицейские и юридические силы, чтобы подавить свободу собрания и другие подобные свободы (в потенциале своем революционные).
Таким образом, свобода собрания — нечто отличное от конкретного права, распределяемого и защищаемого существующими национальными государствами. По этой причине, хотя есть много замечательных исследований истории свободы собрания, например, в США, они не всегда позволяют нам понять такие транснациональные формы альянсов или глобальные сети, которые были характерны для движения Occupy. Если мы ограничиваем анализ свободы собрания той или иной национальной историей этого права, мы можем непреднамеренно согласиться с тем, что право существует только в той мере, в какой государство наделяет им и защищает его. Тогда, если нам надо обеспечить действенность этого права, мы попадаем в зависимость от сохранения национального государства. И это, конечно, неверно, если в «свободе собрания» национальное государство защищает именно то право, которое может свергнуть само это государство, когда оно применяется коллективно. Я считаю, что именно это имеется в виду, когда Арендт и другие усматривают в свободе собрания воссоздание права на революцию. Даже если определенный режим признает и защищает такое право, мне представляется, что свобода собрания должна предшествовать любой форме правления, наделяющей таким правом и защищающим его, и превосходить ее. Я говорю это не для того, чтобы навечно установить анархию и, конечно, не для согласия с определенными формами власти толпы, я хочу указать, что свобода собрания, возможно, является предварительным условием самой политики, поскольку ею предполагается, что тела могут неподконтрольно двигаться и собираться, активируя свои политические требования в пространстве, которое, соответственно, становится публичным или переопределяет существующее понимание публичности.
Такое собрание может называться «народом» или может быть определенной версией «народа», — люди, его составляющие, не говорят одним голосом или на одном языке. Но они образуют собой такой тип существ, которые наделены способностью двигаться благодаря той или иной технической поддержке, для этого необходимой (это важное уточнение, вдохновленное исследованиями инвалидности, имеет вполне конкретное значение для идеи общественного собрания). И это значит, что они могут принять решение стоять на месте, не двигаться или замереть в своих желаниях и требованиях. Власть двигаться или стоять на месте, говорить или действовать принадлежит собранию прежде каких угодно прав, которые государство может присудить или защитить и превосходит эти права. Скопление толпы вместе, как утверждает Джон Иназу, обладает «выразительной функцией», предшествующей любому конкретному заявлению или высказыванию, которое такая толпа может изречь. Сама власть государства может стать тем, чему свобода собрания противостоит, и в этот самый момент мы замечаем работу определенной формы народного суверенитета, которая отличается от суверенитета государственного и чья задача состоит именно в том, чтобы отличить себя от последнего.
Как же в таком случае мы должны мыслить свободу собрания и народный суверенитет? Я знаю, что некоторые стали считать слово «суверенитет» дурным, поскольку оно связывает политику с единичным субъектом, а форму исполнительной власти — с территориальными претензиями. Иногда оно использовалось в качестве синонима господства, а также угнетения. Но, возможно, оно имеет и другие коннотации, от которых мы не захотим полностью отказаться. Достаточно рассмотреть споры по поводу коренного суверенитета в Канаде или прочитать важную работу Дж. Кехаулани Кауануи о парадоксах гавайского суверенитета, чтобы понять, насколько важным это понятие может быть для народной мобилизации. Суверенитет может быть одним из способов описания актов политического самоопределения, и по этой причине движения коренных народов, которые борются за суверенитет, стали важными формами притязаний на пространство, на свободное перемещение, на выражение собственных взглядов, на справедливость и репарации. Хотя выборы являются одним из способов представления народного суверенитета (или, говоря конкретнее, «народной воли») государственными чиновниками, значение народного суверенитета никогда не исчерпывалось полностью актом голосования. Конечно, голосование является важнейшей составляющей любого понятия народного суверенитета, однако исполнение суверенитета никогда не начинается и не заканчивается актом голосования. Теоретики демократии какое-то время доказывали, что суверенитет населения не передается представителям выборами в полной мере, так что какая-то часть этого народного суверенитета всегда остается непередаваемой, указывая на внешнее для электорального процесса пространство. Если бы было иначе, у народа не было бы способа выступить против фальсификации выборов. В определенном смысле власть населения остается отделенной от власти выборных представителей даже после их избрания, поскольку только будучи отдельной она может по-прежнему оспаривать условия и результаты выборов, а также действия выборных госслужащих. Если суверенитет народа полностью передается тем, кого выбирает большинство, и заменяется ими, тогда утрачиваются способность критики, активность сопротивления и та реальная возможность, которую мы называем революцией.
Таким образом, «народный суверенитет» при голосовании народа бесспорно находит выражение в определенной выборной власти, однако такое выражение всегда остается неполным и не до конца адекватным. Нечто в народном суверенитете остается невыразимым, непередаваемым и даже незаменяемым, и именно по этой причине он может одновременно выбирать и свергать режимы. В той мере, в какой народный суверенитет легитимирует парламентские формы власти, он в то же время сохраняет власть, позволяющую лишать своей поддержки те же формы, когда они оказываются нелегитимными. Хотя, чтобы быть легитимными, парламентским формам власти нужен народный суверенитет, они в то же самое время, несомненно, боятся его, поскольку в нем всегда остается что-то противоречащее любой парламентской форме, которую он учреждает и обосновывает, нечто выходящее за ее пределы и ее опережающее. Выборный режим может быть приостановлен или отменен собранием народа, которое говорит «от имени народа», активируя то самое «мы», которое в условиях демократического правления удерживает за собой окончательную власть легитимации. Иначе говоря, условия демократического правления зависят в конечном счете от реализации народной воли, которая никогда в полной мере не вмещается в тот или иной демократический порядок и не выражается им, но при этом является условием его демократичности. Это внепарламентская власть, без которой ни один парламент не может работать легитимно, то есть власть, которая грозит каждому парламенту приостановкой или даже роспуском. Мы можем опять же назвать ее «анархистским» разрывом или перманентным источником революции, который содержится в демократических порядках и который более или менее явно обнаруживает себя и в моменты учреждения, и в моменты развала, но действует также и в самой свободе собрания.
Я хотела бы отметить, что активирования не сводятся в полной мере к утверждениям; утверждения, скорее всего, лишь одна из форм политического активирования, и именно поэтому сфера политической перформативности включает словесные или письменные высказывания, но не ограничивается ими. Соответственно, я хотела бы опереться на важную идею Джейсона Франка о «конститутивных моментах», в которые активирование народа превосходит его репрезентацию; с его точки зрения, для представления народа народ должен активироваться, однако никакое активирование не может его представлять. Франк считает, что это различие между активированием и представлением оказывается главным парадоксом демократических собраний.
Если государство контролирует сами условия свободы собрания, народный суверенитет становится инструментом государственного суверенитета, а условия, легитимирующие государство, утрачиваются в то самое время, когда свобода собрания лишается своих критических и демократических функций. Я хотела бы добавить, что если мы согласны с тезисом о зависимости народного суверенитета от суверенитета государства и думаем, что суверенное государство в силу власти исключения контролирует, какая часть населения будет защищена законом, то мы, возможно, ненамеренно уже свели власть народного суверенитета к голой жизни или к определенной форме анархизма, которая предполагает разрыв с государственным суверенитетом. Однако поскольку такой разрыв уже предполагается народным суверенитетом или сам народный суверенитет уже является разрывом такого рода, сведение народного суверенитета к государственному не позволяет увидеть наиважнейший потенциал, проявляющийся в качестве предельной организующей ценности многих народных движений, которые сражаются за самоопределение. Воззвание к народу становится — и должно становиться — спорным в тот самый момент, когда оно появляется. Такое «появление» может обозначать видимое присутствие, высказанные слова, но также сетевое представительство и молчание. Кроме того, мы должны понимать все эти акты в качестве множественного действия, предполагающего множественность тел, которые активируют свои общие намерения, не требуя строгого сходства действий или претензий и не образуя единообразный субъект.
Даже если всё это кажется довольно понятным, остается другой, сложный и тревожный вопрос: кто является «народом»? Задавался ли вообще этот вопрос ранее? Я понимаю, что эта тема подробно обсуждалась Жаком Деррида, Бонни Хониг, Этьеном Балибаром, Эрнесто Лаклау и Жаком Рансьером, и я не собираюсь сейчас добавить ничего нового к этим дискуссиям. Однако каждый из них согласен с тем, что любое обозначение «народа» работает только за счет установления границ, которые задают условия включения и исключения. Это одна из причин, по которым теоретики демократии старались подчеркнуть временный и всегда открытый характер «народа», часто стремясь создать контраргументы против логики исключения, благодаря которой действует любое обозначение. Мы также знакомы с рассуждениями о воображаемом характере «народа», подтверждающими, что любое обращение к этому термину грозит национализмом или утопизмом или что «народ» превращается в необходимое пустое означающее. Пока я хочу лишь подчеркнуть, что мы не можем подтвердить составляющие народ тела, просто указав на фотоснимок какого-то количества тел. Чтобы выяснить, чего хотят люди и действительно ли они этого хотят, мы не можем обратиться к аэрофотосъемке, сделанной управляющей толпами на улице полицией. Подобная процедура парадоксальным образом опиралась бы на технологию, нацеленную на контроль населения, а потому «народ» стал бы результатом демографической экспертизы. Любая фотография, любая подборка изображений, несомненно, имела бы рамку или много рамок, и границы кадров работали бы в качестве потенциально исключающего обозначения, поскольку содержат лишь то, что ими схватывается, за счет определения зоны несхватываемого. То же самое можно было бы сказать о любой видеозаписи, которая где-то начинается и где-то заканчивается, составляя последовательность кадров. Она всегда ограничена углом зрения, определяющим способ создания и подачи предмета этой съемки.
Одна из причин, по которой замечания о визуальной репрезентации столь важны, состоит в том, что ни одно изображение толпы не может представлять народ, когда не у всего народа есть возможность собраться на улице, по крайней мере на одной и той же улице. Здесь не поможет ни крупный, ни дальний план, поскольку это как раз способы монтажа и отбора тех, кого посчитают, а это значит, что невозможно отделить вопрос о том, кто является народом, от технологии подсчета народа. Возможно, «народ» — это обозначение, которое превосходит любую визуальную рамку, нацеленную выразить народ, а более демократичными будут допускающие пористость и помехи кадры, за счет чего они отчасти ломаются и не воспроизводят стратегию ограничения.
Порой народ или некоторые люди изолированы либо отсутствуют, находятся вне улицы и поля зрения камеры, то есть они не могут быть ею сняты, хотя в другом смысле они вполне могут быть представлены. На самом деле никогда не бывает так, чтобы все возможные люди, передаваемые понятием «народ», появились в одно и то же время в одном и том же месте, чтобы заявить, что они народ! Словно все они могут свободно перемещаться и по собственному желанию скапливаться вместе в определенный момент в определенном пространстве, которое можно было бы, никого не исключив, описать или сфотографировать!
На самом деле, было бы странно, если не страшно, вообразить себе, как каждый член группы под названием «народ» собирается вместе с другими и говорит с ними в унисон, — это была бы фантазия, а может даже фантазм с элементами мании преследования, чья соблазнительная сила связана с принципиальной неисполнимостью. Обычно такое событие, когда каждый одновременно говорит одно и то же, связывается с некоторыми формами фашизма или иными формами принуждения к конформизму. В действительности «мы, народ» — как высказывание, слоган, написанная строка — всегда упускает какую-то группу, на представление которой притязает. Некоторые люди не могут явиться или им не дают это сделать; многие живут на периферии мегаполисов, другие скучены по границам государств в лагерях беженцев, ожидая выдачи документов, возможности передвигаться и предоставления убежища, тогда как третьи содержатся в тюрьме или лагерях. Те, кто находятся в другом месте, может быть, говорят что-то другое, если у них есть такая возможность, или посылают сообщения и ведут блоги, действуют через новые медиа; некоторые же выразительно или равнодушно молчат.
Это означает, что «народ» никогда не присутствует коллективно, высказываясь хором; кем бы ни был народ, он всегда разнороден внутри себя, появляясь по-разному, поэтапно, не целиком или лишь в определенной степени, являясь в каком-то смысле собранным и в то же время рассеянным, а потому в конечном счете не являясь в качестве единства. В действительности, как мы знаем по демонстрациям, имевшим место в Турции и Египте летом 2013 года, одна группа собирается в одном месте и называет себя народом, тогда как другая группа собирается через улицу и заявляет то же самое, в это же время правительство может собрать группу людей именно для того, чтобы создать образ, работающий в качестве визуального означающего «народ».
Для доступа к любой общественной площади заранее требуется доступ к определенным медиа, которые передают события за пределы данного пространства и времени; общественная площадь частично определяется сегодня в качестве медиаэффекта, но также в какой-то мере как аппарат высказывания, благодаря которому группа людей называет себя народом; связь площади со средством информации, которое запускает событие в оборот, означает, что люди рассеиваются в то самое время, когда собираются; медийное изображение показывает и рассеивает собрание. Это диктует необходимость радикально переосмыслить общественную площадь в качестве уже рассеянной медиарепрезентацией, без которой она теряет свою претензию на репрезентативность. Это подразумевает, что народ не до конца известен и познаваем, кем бы он ни был, и не только потому, что рамка медиа ограничивает и оформляет распространяемую идею народа. Нам точно известно, однако, что кем бы они ни были и где бы они ни оказались, люди так или иначе ограничены в своих способностях к передвижению и собранию, а также по-разному самоопределяются. Если они приходят на общее собрание, это не значит, что каждый согласен с высказываемым от имени собрания или что у собрания есть название. Спор о наименовании становится гегемонной борьбой, а «народ», похоже, является просто еще одним предметом этого спора.
Что же из этого следует? Народу не нужно приходить к единому мнению по каждому вопросу, да это и невозможно сделать. И точно так же не нужно собираться в одном-единственном месте, чтобы совместное действие состоялось от имени народа. Это имя, «народ», и эта декларация, «мы, народ», не охватывает в полной мере, что народ делает, поскольку всегда есть нечто отличное от конкретной сформировавшейся и появившейся группы, которая, похоже, говорит, чего все люди хотели бы, и причина именно в том, что существует зазор между происходящим во имя народа и тем, чего народ хочет. Не все люди хотят одного и того же, не все хотят одинаковым образом — и в этом нет ничего досадного. Имя народа присваивается, оспаривается и обновляется, оно всегда может быть экспроприировано или отвергнуто, посему хрупкость и неумолимость являются лишь знаками демократического действия гегемонной борьбы за имя. Таким образом, даже когда некий оратор или их группа говорит, что «мы» честно и в полной мере представляем всех людей, это множественное «мы» не может на самом деле делать то, что оно тем не менее делает; такие ораторы могут, конечно, продолжать борьбу за более инклюзивные цели, подчеркивая перспективный характер этого «мы», но если «мы» должно работать политически, оно должно ограничиваться теми, кто пользуется «мы», чтобы попытаться достичь гегемонной власти и реализовать ее. Действительно, те, кто собирается как «мы», представляя себя в качестве «народа», в конечном счете не представляют народ полностью и адекватно; скорее, они выполняют несколько функций сразу: например, если они голосуют, они дают легитимирующее основание для тех, кто будет представлять народ после выборов. Возможно, не менее важно, что претензия выборных чиновников на представительство требует конденсации народа в совокупности большинства голосов, которые можно подсчитать. В этом смысле люди ужимаются и едва ли не теряются в момент, когда они выбирают своих представителей, то есть политическое представительство преуменьшает и квантифицирует то, что мы могли бы назвать волей народа. В этом процессе также задействуется и нечто, не относящееся напрямую к выборам. Как внутри электорального процесса, так и вне его или против него, люди, которые говорят «мы», конституируют самих себя в качестве народа в течение активирования или провозглашения этого множественного местоимения либо буквально, либо фигурально. Совместное стояние перед полицейской шеренгой как раз может быть активированием такого множественного местоимения без слов. Когда турецкое правительство летом 2013 года запретило собрания на площади Таксим, один человек встал перед полицией, очевидно «подчиняясь» закону, запрещавшему собираться вместе с другими. Когда он встал там, другие люди тоже встали поодиночке рядом с ним, но не в виде «толпы». Они стояли в качестве отдельных индивидов, но они стояли все вместе — молча и неподвижно, как одиночные индивиды, избегая стандартного представления о «собрании» и вместо него производя новое. Они формально повиновались закону, запрещающему группам собираться и двигаться, когда стояли так по отдельности и без слов. Это стало выразительной, но бессловесной демонстрацией.
Эти акты самосоздания и самоконституирования — не то же самое, что представление уже полностью сформированного народа. Термин «народ» представляет не только существующую совокупность людей; если бы это было так, этот термин датировал бы производство самой коллективности задним числом. Действительно, такой термин никогда не может адекватно представлять коллективность, которая находится в процессе образования или самоформирования: его неадекватность и внутренняя разнородность являются составляющей активирования его значения и обещания. Дискурсивное воззвание «мы» отсылает к народу, чьи нужды, желания и требования не до конца известны, чье скопление вместе тесно связано с будущим, которое еще предстоит прожить. Собственно, подобные практики самоопределения не вполне совпадают с актами самопредставительства, хотя они и воздействуют на осуществление свободы собрания, в которой «мы, народ» каким-то образом высказывается и активируется. Это активирование является перформативным, поскольку оно порождает именуемый им народ или призывает его собраться под самим этим высказыванием. А это значит, что такие перформативные действия являются частью процесса политического самоопределения, то есть обозначают то, кем мы являемся, в то же время участвуя в создании этого «мы». Кроме того, воззвание «мы» отделяет народный суверенитет от государственного; оно снова и снова именует и учреждает разницу между ними. Множественность всегда порывает с теми, кто выбран, либо с теми, в выборе кого мы сомневаемся, либо с государством, чьих представителей у нас никогда не было возможности выбрать, как в случаях оккупации или в ситуациях недокументированных иммигрантов, людей с частичным гражданством или его полным отсутствием.
Таким образом, нечто неспособное представлять всех, что мы могли бы почти тавтологически назвать непредставительным или нерепрезентативным, становится основой демократических форм самоопределения — народного суверенитета, отличного от государственного, или, точнее, народного суверенитета именно в той мере, в какой он постоянно отличает себя от государственного. Народный суверенитет имеет смысл только в таком непрерывном акте отделения от государственного; следовательно, это способ формирования народа посредством актов самообозначения и самособирания; они являются многократным активированием — вербальным и невербальным, телесным и виртуальным, осуществляемым невзирая на границы пространственных и временных зон, на различных публичных сценах, в виртуальных реальностях и периферийных областях. Оглашенный перформатив «мы, народ» — это, конечно, часть активирования, которое мы называем самоконституированием, однако этот образ не может приниматься за буквальное описание того, как работает политическое самоопределение. Не каждый акт политического самоопределения может выражаться в словесном высказывании, — такой тезис наделял бы вербальную область бóльшими привилегиями, чем любую другую. Фактически активирование политического самоопределения обязательно должно быть смычкой лингвистического и телесного, даже если действие является молчаливым, а тело находится в заточении.
Как, к примеру, понимать голодовку, если не как телесно исполненный на практике отказ в условиях невозможности появиться на публике? В этом случае появление на публике в телесной форме не является адекватным способом политического самоопределения. В то же самое время голодовка, о которой в публичном пространстве ничего не сообщается и которая в нем никак не представлена, не может донести до других силу самого акта. Тюремные сети — это и есть те формы солидарности, которые не появляются на публике, да и не могут появляться в телесной форме, а потому в основном опираются на сообщения в цифровых медиа, сопровождаемые немногочисленными изображениями или обходящиеся вовсе без них. Эти сети заключенных, активистов, юристов, широкого круга родственников и социальных отношений, где бы они ни складывались — в Турции, в палестинских тюрьмах и лагерях или в Пеликан-Бэй в Калифорнии, — также представляют собой формы «собрания», в которых люди, временно лишенные некоторых гражданских прав, осуществляют определенную форму свободы забастовками, петициями и теми или иными видами юридического и политического представительства. И даже если сами они не появляются, если им это не позволяется, они все равно реализуют право появляться на публике либо в суде, либо в публичном пространстве, выступая как раз против этого условия тюремного заключения — запрета появляться на публике.
Учитывая все это, повторим еще раз наиболее важные для переосмысления свободы собрания в отношении к народному суверенитету аргументы: (1) народный суверенитет является, соответственно, формой рефлексивного самосоздания, отличной от легитимируемого им представительского режима; (2) он возникает в ходе отделения суверенитетов друг от друга; (3) он не может легитимировать ни один режим, не будучи от него отделенным, то есть для этого он должен оставаться в какой-то мере неподконтрольным режиму и не быть его инструментом, несмотря на то что является основанием для формирования легитимного правительства путем честных и инклюзивных выборов; (4) его акт самосоздания является в действительности набором пространственно удаленных друг от друга актов, которые не всегда действуют в одном и том же направлении и не преследуют одни и те же цели. К числу наиболее важных пространственных измерений относится различие между публичной сферой и сферами принудительной изоляции, такими как тюрьма, в которой удерживаются и угнетаются политические заключенные, то есть люди, осуществлявшие свободу собрания и слова. Переход в публичное пространство и за его пределы регулируется не чем иным, как юридической и полицейской властью, а также институтом тюрьмы. Далее, (5) активирование «мы, народ» может принимать или не принимать языковую форму; речь и молчание, движение и неподвижность — все это политические активирования; голодовка является оборотной стороной свободно стоящего в публичной сфере и говорящего сытого тела — она указывает на лишение этого права и является формой сопротивления этому лишению, она активирует и выявляет лишение, которому подвергаются заключенные.
Основание народа становится — и должно становиться — спорным в тот самый момент, когда оно появляется. «Появление» может обозначать видимое присутствие, высказанные слова, но также сетевую репрезентацию и совместное молчание. Дифференцирующая власть, которая принимает одновременно пространственные и темпоральные формы, определяет, кто может быть частью такого активирования, а также обуславливает средства и методы этих активирований. Изоляция предполагает пространственное отделение от публичных собраний и конкретный срок заключения или неизвестность неопределенно долгого задержания. Поскольку публичная сфера отчасти образована местами принудительного заточения, определяющие публичность границы являются также границами изолированного, заточенного, подвергнутого тюремному заключению, изгнанного и исчезнувшего. Речь идет о границах национального государства, где недокументированных иммигрантов изолируют в лагерях беженцев, где отказывают в правах гражданства или приостанавливают их на неопределенный срок, либо о тюрьмах, где нормой стало неопределенно долгое задержание, — во всех этих случаях запрет на появление, движение и речь на публике становится предварительным условием телесной жизни. Тюрьма — не совсем антоним публичной сферы, поскольку сети защитников прав заключенных проникают сквозь тюремные стены. Формы сопротивления заключенных — это формы активирования, которые по определению не могут быть частью городской площади, хотя, благодаря сетям коммуникации и посредникам, они на это, конечно, способны. И все же, независимо от того, насколько виртуальной мы готовы понимать публичную сферу (поскольку есть много причин так поступать), тюрьма остается предельным случаем публичной сферы, обнажающим способность государства контролировать, кто может выходить в публичность, а кто нет. Следовательно, тюрьма является предельным случаем публичной сферы, поскольку возможность тюремного заключения постоянно маячит при реализации свободы собрания. В тюрьму можно попасть за то, что говоришь или просто за участие в собрании. Также можно попасть в тюрьму за тексты или лекции о собраниях, о борьбе за свободу, о народной борьбе за суверенитет, что, к примеру, бывает с преподавателями турецких университетов, которые рассказывают о движении за свободу курдов.
Все это объясняет, почему те, у кого есть свобода появляться, никогда не могут в полной мере или соразмерно представлять народ, поскольку, как мы знаем, есть люди, которые не присутствуют в публичности, не присутствуют в этой толпе, собравшейся здесь, в парке Гези; они — те, кто должен найти представителей, пусть даже последние рискуют оказаться из-за этого в тюрьме. И дело не только в том, что некоторым людям просто не довелось присутствовать на собрании, поскольку они были заняты чем-то другим; скорее, есть те, кто вообще не мог собраться в парке Гези или где бы то ни было, кому на неопределенное время помешали собираться. Сама эта подвергающая изоляции власть является способом определения, производства и контроля того, чем будет публичная сфера и кто будет допущен в общественное собрание. Она работает вместе с приватизацией как процессом, превращающим публичную сферу в предпринимательские ресурсы рыночного государства. Таким образом, хотя важно спрашивать, почему выступающие против приватизации толпы полиция разгоняет при помощи слезоточивого газа и насилия, не менее важно помнить, что государство, отдающее публичное пространство в руки частного предпринимательства или руководствующееся рыночными ценностями, занимается контролем и опустошением публичного пространства по меньшей мере еще двумя способами. Некоторые сокрушаются, что движение, начинающееся с сопротивления приватизации, неизбежно становится движением против полицейского насилия. Но давайте постараемся понять, что отъем публичного пространства от народного суверенитета является целью и приватизации, и полицейского натиска на свободу собрания. В этом отношении рынок и тюрьму роднит тюремная индустрия, которая, как ясно показала Анджела Дэвис, направлена на регулирование прав гражданства — в США это происходит в неизменно расистских формах, поскольку чернокожие мужчины по-прежнему составляют подавляющее большинство заключенных. Мы можем добавить, что рынок и тюрьма также работают вместе над ограничением, опустошением и присвоением публичного пространства, тем самым существенно сужая предложенное Ханной Арендт понятие «права появляться».
Сказав все это, я хотела бы вернуться к теоретическому соображению о свободе собрания, чтобы указать на некоторые из политических следствий нашего хода мысли. Мое исследование началось с вопросов о том, в каком смысле свобода собрания является точечным выражением народного суверенитета? Должна ли она пониматься как перформативное выполнение или как-то, что Джейсон Франк называет «малыми драмами самоуполномочивания»? Вначале я предположила, что перформативная сила народа не опирается в первую очередь на слова. Собрание имеет смысл только тогда, когда тела могут собраться и действительно собираются либо каким-то образом связываются, и тогда производятся речевые акты, в которых высказывается нечто уже имеющееся там на уровне множественного тела. Но вспомним о том, что изречение — это не только язык знаков, но и телесный акт, то есть не бывает речи без тела, которое что-то означивает, и порой тело означивает совсем не то, что человек на самом деле говорит. В теории демократии «мы, народ» преимущественно является прежде всего речевым актом, несмотря ни на что. Некто говорит «мы» вместе с кем-то другим, или какая-то группа говорит это хором, возможно скандируя, или они пишут это и рассылают повсюду, или неподвижно и безмолвно стоят друг рядом с другом, на время объединившись, активируя собрание; когда они это говорят, они нацелены создать себя в качестве «народа», начиная с момента самой декларации. Поэтому «мы, народ», если считать это речевым актом, является высказыванием, имеющим целью создание той социальной множественности, которую оно именует. Оно не описывает эту множественность, а собирает ее вместе посредством речевого акта.
Тогда может показаться, что в выражении «мы, народ» задействована языковая форма автогенеза; оно может показаться магическим актом или по крайней мере действием, призывающим нас поверить в волшебную природу перформатива. Конечно, с высказывания «мы, народ» начинается более продолжительная декларация потребностей и желаний, намерений и политических притязаний. Это преамбула; она готовит путь для конкретной совокупности заявлений. Это фраза, которая подготавливает нас к содержательному политическому требованию, и все же мы должны задержаться на этой преамбуле и спросить, не предъявляется ли уже ею самой политическое требование или не может ли оно предъявляться еще до того, как кто-то выскажется или под чем-то подпишется. Скорее всего, все люди, которые могли бы сказать «мы, народ», в то же время никак не смогли бы сказать эту фразу в унисон. Если же собравшаяся группа порой начинает выкрикивать «мы, народ», как на собраниях движения Occupy, то это кратковременный, преходящий момент — когда один человек говорит одновременно с другими, из этого совместного множественного действия следует непредумышленный множественный звук, произнесенный совместно и последовательно речевой акт со всеми возможными вариациями, которые предполагаются повторением.
Но давайте допустим, что такое мгновение речи, в унисон которой именуют себя «народом», редко бывает одномоментным и множественным. В конце концов, заявление «мы, народ» в США является цитатой, и фраза никогда полностью не освобождается от своей вторичности. Декларация независимости США начинается с такой фразы, которая уполномочивает авторов говорить за народ в целом. Это фраза, которая устанавливает политическую власть в то самое время, когда заявляет определенную форму народного суверенитета, не ограниченного никакой политической силой. Деррида и Бонни Хониг проанализировали несколько важных моментов этой ситуации. Народный суверенитет может быть передан (санкцией), и в нем может быть отказано (несогласием или революцией), и это означает, что каждый режим зависит от санкции народного суверенитета, если этот режим нацелен основать свою легитимность на чем-то помимо принуждения. Речевой акт, каким бы конкретным он ни был, тем не менее включен в цепь цитирований, то есть темпоральные условия производства речевого акта предшествуют сиюминутному поводу высказывания и превосходят его. Есть и еще одна причина, по которой речевой акт, пусть и иллокутивный, не полностью привязан к моменту высказывания: социальная множественность, обозначаемая и производимая изречением, не может собраться целиком в одном и том же месте, чтобы говорить в одно и то же время, так что она является пространственно и темпорально протяженным феноменом. Когда и где народный суверенитет — самозаконодательная власть народа — «объявлен» или, скорее, «объявляет себя», это происходит не совсем в одно мгновение, а в серии речевых актов или того, что я предлагаю назвать перформативным активированием, которое не обязательно делается устно.
Поэтому я полагаю, что мой вопрос мог бы формулироваться так: каковы телесные условия высказывания «мы, народ», и не совершаем ли мы ошибки, когда отделяем содержание свободного высказывания от свободы собираться вместе? Я предлагаю мыслить собрание тел в качестве перформативного активирования, а потому предполагаю, что (а) народный суверенитет осуществляется перформативно и (б) он обязательно включает перформативное активирование тел, иногда собранных в одном месте, а иногда — нет. Для начала я предлагаю понять ту идею народного суверенитета, которую стремится утвердить фраза «мы, народ». Если «мы, народ» как выражение, предложенное в Конституции, считается «самоочевидной истиной», как указано в Декларации независимости, значит мы уже попали в своего рода ловушку. Перформативное заявление нацелено произвести эти истины, но если они «самоочевидны», тогда это именно те истины, которые не нуждаются в их производстве. Либо они перформативно устанавливаются, либо они самоочевидны, но производство того, что самоочевидно, представляется парадоксом. Мы могли бы сказать либо то, что какая-то совокупность истин была выработана, либо то, что мы где-то нашли эти истины, а значит не мы произвели их на свет. Наконец, мы можем сказать, что истины рассматриваемого рода должны быть объявлены самоочевидными, чтобы об этой самоочевидности стало известно. Другими словами, они должны быть сделаны самоочевидными, а это значит, что они не самоочевидны. Эта круговая логика, похоже, грозит противоречием или тавтологией, но, возможно, такие истины становятся очевидными только в силу того, что они такими объявляются. Иными словами, перформативное активирование истины — это способ сделать очевидной эту самую истину, поскольку рассматриваемая истина не является изначально данной или статичной, она активируется или осуществляется благодаря конкретному типу множественного действия. И если в объявлении народного суверенитета на кону стоит именно эта способность к множественному действию, тогда не существует способа «показать» эту истину за пределами множественного и неизменно конфликтного активирования, называемого нами самоконституированием.
Если множественный субъект конституируется в ходе его перформативного действия, значит он еще не конституирован; какую бы форму он ни имел до своего перформативного осуществления, она не совпадает с той, которую он принимает в самом действии и после него. Как в таком случае мы должны понимать это движение скапливания, которое имеет определенную длительность и предполагает ситуативные, периодические или окончательные формы дробления? Это не один акт, а сближение различных действий, форма политической социальности, не сводящаяся к единообразию. Даже когда толпа говорит как единое целое, составляющие ее люди должны встать рядом, чтобы услышать голоса друг друга, сверить темп высказываний, задать ритм и добиться гармонии, а также установить звуковые и в то же время телесные отношения с теми, вместе с кем выполняется некоторое означивающее действие или речевой акт. Мы начинаем говорить сейчас и сейчас заканчиваем. Мы начинаем двигаться сейчас или примерно в одно и то же время, но, конечно, не как единый организм. Мы можем попытаться остановиться все вместе, но некоторые продолжают двигаться, а другие двигаются и останавливаются в своем собственном ритме. Темпоральная серийность и координация, телесная близость, диапазон звука, скоординированные высказывания — все это важные аспекты собрания и демонстрации. И все они предполагаются речевым актом «мы, народ»; они — сложные составляющие этого повода к такому высказыванию, невербальные формы его значения.
Если мы пытаемся принять оглашение за модель речевого акта, тогда тело, несомненно, изначально полагается в качестве органа речи, одновременно органического условия и речевого аппарата. Тело не превращается в чистую мысль, когда говорит, но означивает органические условия вербализации, что, как отмечает Шошана Фелман, делает речевой акт всегда чем-то бóльшим и отличным от, собственно, высказываемого. Таким образом, точно так же, как не существует чисто лингвистического речевого акта, отделенного от телесных актов, нет и чисто понятийного момента мысли, который не имел бы ничего общего с собственным органическим условием. И это наталкивает нас на идею, что сказать «мы, народ» — написать эту фразу или прокричать ее на улице — означает определить собрание в ходе его самоопределения и формирования самого себя. Фраза воздействует на себя в момент, когда действует, и телесное условие множественности обозначается независимо от того, проявляется ли оно во время изречения. Такое множественное и динамичное телесное условие является конститутивным измерением повода высказаться.
Телесный характер народа оказывается довольно важным в разрезе типов предъявляемых требований, поскольку чаще всего телесные потребности плохо удовлетворены из-за деградировавших условий жизни. Нам может показаться концептуально недопустимым говорить о «базовых телесных нуждах», словно бы мы обращались к некоему внеисторическому понятию тела, чтобы предъявить моральные и политические требования касательно честного обращения и справедливого распределения общественных благ. Но, возможно, еще хуже было бы вообще отказаться говорить о телесных потребностях из боязни попасть в теоретическую ловушку. Дело не в том, что надо выбрать либо внеисторическую, либо историческую версию тела, поскольку даже формулировка конкретно исторической конструкции обладает своими неизменными чертами, а каждое универсальное понятие тела выводится из вполне специфичных исторических формаций. Следовательно, ни одна сторона этого спора не дана независимо от другой. Каждая конкретная телесная потребность должна так или иначе исторически артикулироваться, и вполне может быть так, что называемое «потребностью» является именно исторической артикуляцией крайней нужды, которая по этой причине оказывается не просто эффектом артикуляции. Другими словами, нет способа отделить идею телесной потребности от схемы репрезентации, в которой по-разному признаются разные телесные потребности и слишком часто некоторые из них вовсе не признаются. Это еще не делает телесные потребности полностью внеисторическими, но и не превращает их в чистые эффекты специфического исторического дискурса. Опять же, отношения между телом и дискурсом пересекаются, указывая на то, что тело должно каким-либо образом представляться и что оно никогда в полной мере не ограничивается своим представлением. Более того, различные способы, которыми тело представлено и не представлено, определяют и представление потребностей в полях власти. Также можно учесть производство потребностей в трактовке Маркса и с дополнениями Агнес Хеллер, которые оспаривают суждение, что «потребностей не существует». Мы, несомненно, могли бы использовать другие слова, чтобы учесть характеристики их применения нами для подчеркивания каких-то смыслов, однако мы продолжали бы говорить о чем-то, даже если нет способа передать это нечто без используемого нами языка, даже если мы неизменно преобразуем это что-то нашим языком. Понятие «потребностей» в таком случае было бы всегда уже преобразованным языком, то есть смыслом требования или неотложной нужды, и оно не могло бы адекватно схватываться ни этими синонимами, ни любыми другими.
Примерно так же отсылка к «органическому» является одновременно обязательной и непростой: восстановить нечто чисто органическое так же невозможно, как и чисто понятийное, понимаемое в качестве неорганического. Оба понятия представляются всегда каким-то образом организованными, принадлежащими не той или иной особой метафизической субстанции, а кластеру отношений, жестов, движений, составляющих социальный смысл «органического» и очень часто регулирующих его метафизические толкования. Тогда какие другие виды телесных действий и бездействий, жестов и телодвижений, какие модусы координации и организации обуславливают и конституируют речевой акт, уже не понимаемый исключительно в качестве вокализации? Звуки являются лишь одним из способов совместного означивания — за счет пения, скандирования, деклараций, барабанного боя и перестукивания через тюремную стену или разделяющую разные территории перегородку. Как акты всех этих типов «говорят», указывая другой смысл органического и политического, тот, что мог бы пониматься в качестве перформативного активирования собрания?
Когда те, чьим жизням все больше грозит прекарность, выходят на улицу и начинают свое заявление со слов «мы, народ», они утверждают, что они, там появляющиеся и говорящие, определены в качестве «народа». Они стремятся предотвратить будущее, в котором от них не останется и следа. Эта фраза не предполагает, что бенефициары режима — не «народ», и в нее необязательно заключено простое ощущение инклюзии: «мы тоже народ». Она может означать: «Мы все еще народ», следовательно, мы все еще продолжаем существовать, мы все еще не уничтожены. Или она может утверждать форму равенства, противостоящую растущему неравенству; участники собрания не только говорят о равенстве, но и воплощают его насколько это возможно, представляя собой собрание людей на принципах равенства. Можно было бы сказать, что равенство временно и в порядке эксперимента утверждается в гуще неравенства, на что критики ответят: все это совершенно ни к чему, поскольку их акты всего лишь символические, а истинное экономическое равенство становится все более недоступным для людей с астрономическими долгами, для которых закрыты любые возможности трудоустройства. И все же похоже, что воплощение равенства в практиках собрания, акцентуация взаимозависимости и честного распределения трудовых задач, представление о совместно удерживаемой территории или «общем пользовании», — все это закладывает в мир определенную версию равенства, которая на других его участках быстро выветривается. Главное не в том, чтобы видеть в теле всего лишь инструмент предъявления политического требования, а в том, чтобы позволить телу, множеству тел, стать предварительным условием всех дальнейших политических требований.
Действительно, в уличной политике, которую мы наблюдали в последние годы, в движении Occupy, на площади Тахрир, когда там все только начиналось, на Пуэрта-дель-Соль, в парке Гези и в фавелах Бразилии базовые притязания тела оказываются в центре политической мобилизации — на самом деле эти притязания публично активируются до представления какого-либо набора политических требований. Тела, поднимающиеся против сил приватизации, уничтожения социальных служб и идеалов общественного блага, приведенных в действие неолиберальными формами рациональности в госуправлении и повседневной жизни, требуют пищи и жилья, защиты от ущерба и насилия, свободы передвижения, права на труд, доступа к медицинской помощи; тела требуют других тел для поддержки и выживания. Важно, конечно, какого возраста эти тела, не лишены ли они каких-то физических возможностей, поскольку во всех формах зависимости тела требуют не просто другого человека, но социальных систем поддержки, которые имеют сложный характер — человеческий и одновременно технический.
Именно в мире, в котором поддержка телесной жизни все большего числа людей оказывается совершенно ненадежной, тела ступают вместе на мостовую или в грязь, выстраиваются вдоль стены, не позволяющей им пройти к их землям — это собрание, включающее и виртуальных участников, все еще предполагает взаимное переплетение местоположений множества тел. Соответственно, тела принадлежат мостовой, территории, архитектуре, технологии, благодаря которым они живут, движутся, работают и желают. Хотя есть и те, кто скажет, что собравшиеся на улице активные тела составляют сильное, внезапно возникающее в едином порыве множество, которое само по себе представляет радикальное демократическое событие или действие; с этим взглядом я могу согласиться лишь частично. Когда люди порывают связь с существующей властью, они активируют народную волю, но чтобы знать это наверняка, нам понадобилось бы узнать, кто именно это делает и когда, и кто не делает и где они. В конце концов, существуют всевозможные виды внезапно складывающихся множеств, которые я не хотела бы поддерживать (даже если я не оспариваю их право на собрание), и к ним могут быть отнесены толпы линчевателей, антисемитские, расистские или фашистские скопления, а также насильственные формы антипарламентских массовых движений. Меня не слишком интересуют показные способности взволнованных множеств, как и любые другие только-только зарождающиеся и многообещающие жизненные силы, которые вроде бы принадлежат коллективному действию, скорее я озабочена вступлением в борьбу за создание более жизнеутверждающих условий перед угрозой систематической прекаризации и различных форм расового угнетения. Конечная цель политики — не просто сделать совместный рывок (хотя это и может быть существенным моментом аффективной интенсивности в рамках более обширной борьбы с прекаризацией), определяющий новое живое ощущение «народа», пусть даже в целях радикальных демократических изменений, которые я полностью поддерживаю, важно сделать такой рывок, который приковывает к себе внимание всего мира, направляя его усилия на создание более устойчивой возможности жизнеутверждающей жизни для всех. Одно дело — чувствовать себя живым или утверждать живучесть, и совсем другое — говорить, что мимолетное волнение — это все, чего мы можем ожидать от политики. Чувствовать себя живым — не совсем то же самое, что бороться за мир, в котором жизнь становится жизнеутверждающей для тех, кого вообще не считают живыми существами.
Хотя я понимаю, что нечто должно держать такую группу вместе — определенное требование, интуитивное чувство несправедливости и невыносимости жизни или общее представление о возможности изменений, — есть еще и желание произвести новую форму социальности непосредственно на месте. Такие формы мобилизации предъявляют свои притязания через язык, действия, жесты, движения, при помощи рук, которыми берутся друг за друга, посредством отказа двигаться, за счет телесных приемов, позволяющих мешать полиции и властям. Определенное движение может подвергаться повышенным рискам и избегать их в зависимости от собственных стратегий, а также военных и полицейских угроз, которые оно встречает. В каждом из этих случаев мы можем сказать, что эти тела вместе образуют сети сопротивления, при том, что нельзя забывать: тела, являющиеся активными агентами сопротивления, испытывают фундаментальную потребность в поддержке. В сопротивлении уязвимость не вполне преобразуется в агентность — она остается условием сопротивления, условием жизни, в которой она возникает, условием, которому следует дать отпор, раз оно выражается в форме прекариата, что и происходит. Это не то же самое, что слабость или виктимизация, поскольку незащищенные люди в своем сопротивлении должны показать, как их бросили и лишили поддержки, но также мобилизовать эту уязвимость в качестве целенаправленной, активной формы политического сопротивления, открытости тела перед властью во множественном действии сопротивления.
Если бы тело в области политики было по определению активным — то есть всегда конституирующим само себя и никогда не конституированным, — тогда у нас не было бы нужды бороться за условия, обеспечивающие телу его свободную деятельность во имя социальной и экономической справедливости. Эта борьба предполагает, что тела скованы, что они могут быть подвержены скованности. Условие телесной уязвимости выносится на всеобщее обозрение в общественных собраниях и коалициях, которые стремятся противодействовать нарастающей прекарности. Поэтому становится как никогда важно понять отношение между уязвимостью и такими формами деятельности, которые указывают на наше выживание, наше процветание и наше политическое сопротивление. В самом деле, даже в момент активного появления на улице мы беззащитны перед разными угрозами, уязвимы перед ущербом того или иного рода. А значит, существуют целенаправленные, осознанные формы мобилизации уязвимости, которые можно было бы удачнее назвать политическим саморазоблачением.
Наконец, вспомним о том, что каждое заявление, которое мы выдвигаем в публичной сфере, преследуется угрозой тюремного заключения, его предчувствием. Иными словами, появиться в парке Гези и на других улицах Турции — значит уже подвергнуться риску задержания и тюремного заключения. Медработники, которые пришли, чтобы помочь протестующим, сами были за это арестованы. Юристы, которые попытались защищать права собрания и слова, были задержаны и препровождены в тюрьму, а сотрудники правозащитных организаций, попытавшиеся предать эти преступления суду международной общественности, также заключались под стражу или столкнулись с угрозой ареста. Работники медиа, пытавшиеся рассказать о случившемся, подвергались цензуре, задержаниям и арестам. Где бы люди ни пытались заявить свои права на публичное пространство, они рисковали тем, что полиция задержит их, нанесет им увечья или бросит в тюрьму. Следовательно, когда мы думаем об общественном собрании, мы всегда думаем о полицейской власти, которая либо позволяет ему состояться, либо останавливает его, и мы всегда с тревогой ждем момента, когда государство начнет атаковать людей, которых оно должно, по идее, представлять, то есть когда будет устроен принудительный переход из публичного пространства в тюрьму. Публичное пространство действительно определяется этим принудительным переходом. Следовательно, формы солидарности с политическими заключенными, — то есть на самом деле со всеми людьми, помещенными в тюрьму по несправедливости, — предполагают, что солидарность не должна ограничиваться публичной сферой и должна распространяться на сферу изоляции. Заключенные — именно те, кому отказано в свободе собрания и в доступе к публичному пространству. Таким образом, те самые программы государства, которые направлены на приватизацию государственных парков, на то, чтобы рынок занял место пока еще имеющихся общественных благ и прав, являются программами по установлению полицейского контроля над публичным пространством. Нет более эффективного способа сделать это, чем бросить в тюрьму тех, кто заявляет право на публичное пространство, чем напасть на протестантов и разогнать их, если они стремятся вернуть публичную сферу собственно публике. Это одна из возможностей понимать арест и задержания борцов с государством, объявившим войну общественной жизни.
Если приватизация стремится разрушить публичное пространство, то тюрьма — это последняя мера, позволяющая закрыть к нему доступ. То есть в этом смысле приватизация и тюрьма работают рука об руку, не пуская людей в места, которые, как им известно, на самом деле их собственные. Ни у кого не может быть права на общественное собрание в одиночку. Когда кто-либо из нас заявляет это право, — и мы действительно должны так поступать, — нам приходится делать это друг с другом, несмотря на различия и разногласия, в солидарности с теми, кто уже утратил свое право или никогда не признавался частью публичной сферы. Это особенно верно для тех, кто выходит на улицу без разрешений, кто противодействует полиции, военным или другим силам безопасности, не имея оружия, для трансгендеров в трансфобной среде или для недокументированных иммигрантов в странах, криминализирующих попытки получить права гражданства. Лишиться защиты — не значит стать «голой жизнью», скорее это конкретная форма политического саморазоблачения и потенциальной борьбы, одновременно вполне конкретно рискованной, чреватой поломкой, и потенциально активно дерзкой, даже революционной.
Тела, собирающиеся вместе, обозначающие и формирующие себя как «мы, народ», противодействуют формам абстракции, которые словно бы уничтожают социальные и телесные требования к жизни неолиберальными мерами и рыночной рациональностью, работающими отныне как общественные блага. Выйти на собрание, противящееся такому уничтожению, — значит активировать тела, ради которых мы предъявляем наши требования, и порой это значит предъявлять требования не так, как мы намеревались. Нам не нужно заранее знать друг друга или обдумывать требования друг для друга, поскольку ни одно тело на самом деле невозможно без этих других тел, связанных руками или другим пониманием демократии, требующим новых форм солидарности на улице и за ее пределами.
Я твердо убеждена в том, что собрания такого рода могут добиться успеха только в том случае, если они разделяют принципы ненасилия. В столкновениях с насилием важно принципиально воплощать ненасилие — такие акты должны определять всякое движение, стремящееся отстаивать права на публичное собрание. Это требование обязывает меня объяснить, как принцип получает воплощение, и я попытаюсь указать, что я имею в виду под этим, но также оно обязывает меня показать, как возможно ненасильственное сопротивление насилию (соответствующее исследование я проведу в более полном объеме в другом контексте). В ненасилии я хочу подчеркнуть следующее: дело не только в том, что об этом принципе нужно всегда помнить, но и в том, что надо определять этим принципом наше поведение и даже желание: можно сказать, что дело в том, как уступить принципу. Ненасильственное действие не сводится к упражнению воли, то есть воздержанию от агрессивных импульсов; оно является коллективной телесной формой активной борьбы, поддерживаемой культивируемым ограничением.
Ненасильственное сопротивление требует тела, которое появляется, действует и в этом действии пытается создать мир, отличный от того, где тело находится, а это значит, что придется столкнуться с насилием, но не воспроизводить его условия. Такое сопротивление не просто говорит «нет» насилию, но и выкраивает новый субъект вместе с его отношением к миру, в котором пытается воплотить, пусть и на время, альтернативу, достойную борьбы. Можем ли мы тогда сказать, что ненасильственное сопротивление перформативно? Является ли ненасилие поступком, непрерывной деятельностью, а если так, каково ее отношение к пассивности? Хотя пассивное сопротивление — это одна из форм ненасильственного действия, не все формы ненасильственного действия можно свести к пассивному сопротивлению. Для того чтобы лечь перед танком, «обмякнуть», когда сталкиваешься с полицейскими силами, требуется специально развитая способность удерживать определенное положение. Обмякшее тело может показаться отказавшимся от своей активной позиции, и все же, становясь грузом и препятствием, оно сохраняется в своей позе. Агрессия не устраняется, но культивируется, ее окультуренную форму можно увидеть в теле, когда оно стоит, падает, собирается, останавливается, продолжает молчать, пользуется поддержкой других тел, которые оно само тоже поддерживает. Оно поддерживается и поддерживает, так что активируется определенное понятие телесной взаимозависимости, показывающее, что ненасильственное сопротивление нельзя сводить к героическому индивидуализму. Даже индивид, встающий впереди других, делает это в какой-то мере потому, что сзади его поддерживают остальные.
Можем ли мы сказать, что это акты публичного самоконституирования, в которых субъект не просто тот или иной индивидуальный субъект, но и социальное распределение живой и взаимозависимой самости со способностью к выражению и свободой слова, движения, собрания, призывающей и оформляющей тела, которые заявляют о своих базовых правах на труд, жилье и средства поддержания жизни?
Много трудностей стоит на пути реализации такого идеала. Прежде всего, не всегда можно дать точное определение ненасилию. Действительно, каждое определение ненасилия является интерпретацией того, чем оно является или должно быть. Это вновь и вновь создает определенные затруднения: принципиальный взгляд на ненасилие может порой интерпретироваться в качестве насилия, а когда такое случается, те, кто выдвигают эту интерпретацию, считают ее справедливой, тогда как те, чье действие интерпретируется в качестве насильственного, считают ее совершенно неверной. Когда ненасилие интерпретируется как насилие, оно обычно конструируется в качестве прикрытия для насильственных целей или импульсов, а потому и в качестве уловки или формы невовлеченности, позволяющей взять верх тем, на чьей стороне сила. Порой можно решить, что кто-то участвует в ненасильственных акциях, но потом понимаешь, что у данного действия были определенные насильственные черты или следствия, либо что оно попадает в серую зону, особенно когда сила применяется для самообороны. Однако мы должны отличать такую неизвестность относительно всех следствий чьих-либо действий от активного искажения действий теми, кто стремится сделать ненасилие насилием.
Можно было бы рассмотреть такие тактики, как забастовки, тюремные голодовки, прекращение работы, ненасильственные формы занятия государственных или официальных зданий и пространств, чей приватизированный статус оспаривается, бойкоты разных видов, в том числе потребительские и культурные, санкции, публичные собрания, петиции, различные варианты отказа от признания незаконной власти или несогласия освобождать институты, которые были незаконно закрыты. Все эти действия — или бездействия, что зависит от вашей интерпретации, — объединяются тем, что они ставят под вопрос совокупность политических программ и мер или легитимность специфической формы правления. И всё же все они могут быть названы «деструктивными» в силу того, что призывают к переменам в политическом курсе, в формировании государства или правлении, а также требуют существенных изменений статус-кво. Но если протест против определенной политической программы или требование сформировать государство на легитимной основе (такое требование тоже является применением народной воли в условиях демократии) расцениваются в качестве насильственных, или даже «террористических», это значит, что наша способность назвать ненасильственное действие в контексте демократической борьбы сведена на нет фатальной путаницей.
В категориях Ганди, опиравшегося на Торо, ненасильственное гражданское неповиновение является «гражданским отказом от аморальных нормативных актов». С его точки зрения, закон или норма права могут считаться аморальными, ложными в моральном смысле, а потому стать законным предметом гражданского сопротивления. В таком случае правовой норме не подчиняются, но именно потому, что она аморальна (или безнравственна), такое неповиновение справедливо. У граждан есть право не повиноваться безнравственной норме права или закону, поскольку область права подчинена тем формам морали, которые, с точки зрения Ганди, структурируют гражданскую жизнь. Мы, конечно, можем задать вопрос о том, действительно ли мораль подкрепляет гражданские права в том смысле, какой имеет в виду Ганди, но важнее в общем принять его точку зрения. Есть такие способы оспорить легитимность, которые порой принимают форму речевых актов; тогда как в других случаях они опираются на выразительные аспекты множественного телесного действия или отказа от действия. Когда они опираются на множественное телесное действие, они требуют телесной агентности, а в некоторых случаях, когда полиция, службы безопасности или военные пытаются подавить и рассеять собрание, это собрание вступает в прямой контакт с другими телами, которые, возможно, размахивают какими-то предметами или оружием, причиняющими физический вред. Риск физического принуждения и вреда принимается теми, кто идет на голодовки, поскольку, в частности, заключенный, отказавшийся от еды, не только отказывается повиноваться обязательному распорядку, но также не способен воспроизводить себя в качестве заключенного. В самом деле, тюрьме требуется физическое воспроизводство заключенного, чтобы она могла реализовывать себя в качестве особой модальности силы. Другими словами, ненасильственное действие порой осуществляется в силовом поле насилия, и именно по этой причине ненасилие редко оказывается позицией чистоты или отрешенности, то есть позицией абстрагированной дистанции по отношению к сцене насилия. Напротив, ненасилие случается в рамках сцены насилия. Тот, кто вольготно и мирно прогуливается по улице, не участвует в насилии, но и не практикует ненасилие. Ненасилие вступает в игру с угрозой насилия — это способ держать себя и вести себя в одиночку или с другими в потенциально или актуально конфликтном пространстве. Это не значит, что ненасилие всего лишь реактивно: оно может быть способом иметь дело с определенной ситуацией и даже жить в мире, может быть повседневной практикой осторожности, сопровождающей хрупкость живых существ.
Именно потому, что ненасилие является осознанным приемом, позволяющим телесному субъекту переживать ситуации конфликта или конфликтные поползновения и провокации, оно должно призывать к такой практике ненасилия, которая предшествует самому моменту решения и предвосхищает его. Эта форма выдержки, эта позиция рефлексивности опосредуется историческими конвенциями, которые служат узнаваемой основой для ненасильственного действия. Даже если ненасилие представляется актом одиночки, оно опосредовано социально и зависит от сохранения и признания конвенций, управляющих ненасильственными видами поведения.
Конечно, есть те, кто срываются и решаются на насильственные методы, или те, кто идут на ненасильственные собрания, пытаясь извратить его цели, и им тоже надо дать отпор. Насилие является конститутивной возможностью каждого собрания, не только потому, что с флангов всегда поджидает полиция или что существуют силовые фракции, стремящиеся взять под свою власть ненасильственные собрания, но потому, что ни одно политическое собрание никогда не может в полной мере преодолеть собственные конститутивные антагонизмы. Задача в том, чтобы найти способ культивировать антагонизм в ненасильственной практике. Однако идея, будто мы могли бы найти некий мирный регион политической субъектности, не учитывает в полной мере неотложной и постоянной задачи по осмыслению агрессии и антагонизма в качестве содержания демократического спора. Нет способа достичь ненасилия без тактического и принципиального культивирования агрессии в воплощенные модусы действия. Мы можем подражать жестам насилия, обозначая не наши насильственные намерения, а испытываемый нами гнев, который мы сдерживаем и преображаем в телесное политическое выражение. Есть много способов пустить в ход силу, не причиняя ущерба, и мы определенно должны такие способы знать и применять.
Наконец, скорее всего, невозможно мыслить тактику ненасилия отдельно от его частных исторических контекстов. Это не абсолютное правило, а, возможно, этос; действительно, у каждой тактики есть свой неявный этос. Ведь ненасилие — это одновременно этос и тактика, а значит, ненасильственные движения, такие как бойкоты и забастовки, не могут быть просто войной, ведущейся другими средствами. Они должны пониматься в качестве содержательных альтернатив войне, поскольку только через проявление этического требования может быть понята политическая ценность позиции. Добиться этого нелегко, когда есть те, кто могут прочитывать такую тактику только как ненависть и продолжение войны другими средствами. Это, несомненно, одна из причин, по которой ненасилие определяется не только тем, что мы делаем, но и тем, как это выглядит, а это значит, что нам требуются медиа, позволяющие ненасилию получить признание в качестве такового.
Джудит Батлер «Заметки к перформативной теории собрания». Издательство Ad Marginem и музей современного искусства «Гараж», 2018