Смерть обычно не принято обсуждать, но каждый человек рано или поздно сталкивается с ее переживанием. Говорить об этой тяжелой и табуированной теме можно, но подходящих ситуаций и мест для такого разговора почти нет. Так считает Лиза Светлова, исследовательница современного постмортема и смерть-просветная активистка. В 2022 году она создала Big death conf — конференцию, на которой специалисты из «смертельного цеха» (от танатопсихологов и до копщиков могил) открыто рассуждают едва ли не о главных страхах жизни человека.
Лиза Светлова рассказала о том, как говорить о смерти сейчас, когда она стала частью ежедневных новостных сводок. Зачем копаться в загробной жизни, как проживать горе от потери близкого с помощью соцсетей и можно ли вообще победить страх перед тем, что когда-то нас не станет, — в разговоре Ксении Лысенко с основательницей Big death conf.
— Спрошу сразу о главном: зачем говорить о смерти и кому это нужно?
— У моей подруги, танатопсихолога Ольги Ивановой есть шикарный пост, он называется «Смерть как трусы». Он о том, что даже если смерть не табуирована, она остается чем-то таким интимным, о чем абсолютно нормально не хотеть говорить. Но с другой стороны я вижу, как специалисты, психологи и доулы смерти сейчас активно популяризуют идею, что о смерти необходимо разговаривать. Я не до конца разделяю эту точку зрения и считаю, что важно учитывать, насколько человеку комфортно об этом говорить.
О смерти не то чтобы важно говорить и разбивать ее табуированность — про смерть просто можно говорить. Наверное, это звучит очень по-философски: говорить не «нужно» и не «важно», а просто о смерти говорить «можно». И те, кому по какой-то причине это важно, могут прийти туда, где говорят о смерти.
— А почему лично вам важно говорить об этом? И зачем вы вообще занимаетесь темой смерти?
— Этот вопрос простой и в то же время фундаментально сложный. Каждый приходит в тему смерти по-разному, и не всех смерть принимает. Это как любая профессия.
У меня нет какой-то впечатляющей истории, а придумывать специально ее не хочется. Просто я как будто бы оказалась в той среде, в которой я, наверное, и должна была быть.
Иногда я сама с собой веду монолог: «А зачем же я про это говорю? Зачем я сюда пришла?»
Мне иногда самой бывает очень страшно, очень больно, очень непонятно, очень противоречиво. У меня бывают моменты сомнения: действительно ли я делаю то, что нужно? Действительно ли я делаю то, что безопасно и бережно?
Но в итоге я все равно прихожу к мысли, что я на правильном пути, потому что я получаю очень много отклика.
— Давайте обсудим еще один предмет вашего исследования в контексте смерти — современную посмертную фотографию. Как вы ею заинтересовались?
— До 2018 года я работала в одном из музеев Санкт-Петербурга, в экспозиционно-выставочном отделе, и к нам приехала коллекция времен викторианской Англии. Я была удивлена, почему там не было постмортемов, потому что это один из центральных элементов викторианской визуальной культуры. Тогда у меня возникла мысль: «Интересно, сегодня кто-то снимает что-то подобное?». Загуглила, увидела, что снимают, и меня это поразило. До этого времени я занималась теорией фотографии, исследовала научно-медицинскую фотографию и телесность. Когда я увидела, как сейчас разнообразно снимают мертвое тело, у меня словно сложилась триада между наукой, медициной и смертью. Я почувствовала, что все это имеет прочную связь.
Так или иначе, про викторианскую традицию, которая появилась еще в XIX веке, мы знаем. Также наверняка многие слышали о деревенской традиции посмертной фотографии в России. Но то, что сегодня, именно в наши дни, кто-то продолжает [делать посмертные снимки] — это было для меня открытием. Да это открытие для многих, кому я об этом рассказываю.
Люди, оказывается, продолжали, продолжают и будут продолжать фотографировать [мертвых]. Я занимаюсь этим исследованием уже более 6 лет, в декабре по нему выйдет книга в крупнейшем нон-фикшн издательстве «Бомбора». Подобная тема в научпоп-среде поднимается впервые. Но мне важно подчеркнуть, что я в первую очередь изучаю ту область посмертной фотографии, которая зиждется на любви и уважении к человеку. То есть я не исследую девиантные практики.
— Наверное, люди, которые делают снимки близких после смерти, не думают в этот момент, что они являются продолжателями традиций. А зачем они снимают мертвых людей? Что об этом говорят герои вашего исследования?
— На самом деле некоторые, кто сегодня фотографирует мертвых, осознают, что они являются, скажем так, носителями опыта прошлой традиции. Это те, кто знал о том, что у них были такие фотографии дома от бабушек, дедушек, прабабушек. Это те люди, с которыми очень открыто вели в детстве разговоры о смерти. Это те в прошлом дети и подростки, которых брали на похороны.
Но, безусловно, есть большая часть людей, которые действительно не осознают, почему они это делают. Это в основном мои герои, с которыми я беседовала для своего исследования.
Порой в глубинных интервью они даже сами не могут описать, зачем они это делают. Они просто говорят, что им захотелось или показалось, что так надо было сделать, что они не могли этого не сделать. А мотивацию свою объяснить не могут. Но если разложить по тезисам, то это сохранение памяти, попытка побороть боязнь видеть человека при смерти, чтобы считать его смерть такой же частью его жизни.
Я тоже являюсь носителем опыта посмертной фотографии. Я фотографировала папу, и большое число моих респондентов были с похожей мотивировкой: постмортем — это утверждение того, что я сделал все, как завещал мне мой любимый родной человек, или доказательство того, что я все сделал хорошо, правильно и достойно.
В моем случае я знала, что папа хочет умереть дома, на своем диване, в окружении своих детей. Все было сделано так, как он хотел. Это какое-то успокоение себе на будущее, помогающее снизить чувство вины и даже в каком-то смысле чувство стыда, которое появляется, когда твой любимый человек уходит, а ты остаешься здесь наедине с очень противоречивыми чувствами.

Если мы берем посмертную перинатальную фотографию, там история складывается немного по-другому. Перинатальная фотография — это фотография перинатальных потерь, то есть когда ребенок умирает внутриутробно, во время родов, либо в ближайшие дни после родов. Это очень зависимая от законодательства история. Потому что до определенного веса, размера и недели беременности ребенок считается плодом, а после — человеком. И эти законодательные нормы влияют на то, отдают маме или паре их ребенка или не отдают. Как следствие, это определяет, может ли семья похоронить ребенка и есть ли с ним какие-то ритуалы прощания. И посмертная фотография подсвечивает эту проблематику и все эти биоэтические споры, которые рождаются вокруг определения, в какой момент мы считаем кого-то человеком.
В случае внутриутробной смерти посмертная фотография выступает методом очеловечивания ребенка. И мамы, конечно, это фотографируют, как что-то единственное и последнее, что связывает их с ребёнком.
Мне, кстати, очень нравится одна цитата мамы, с которой я говорила для своего исследования. Она написала, что родительство — это порой дать возможность своему ребенку уйти. Для меня это какая-то просто наивысшая степень осознанности и принятия такой трагедии.
«Я очень рада, что у меня есть эти фотографии. Я люблю их. Благодарна, что могу увидеть свою дочь. Фото цифровые, они хранятся в телефоне, но я хотела бы их напечатать. Эти кадры дают ощущение реальности, доказывают, что малышка была, что я не придумала ее и не сошла с ума».
«Когда ребенок внутри, есть надежда, что врачи ошиблись, а родив, ты сталкиваешься с осязаемым фактом, что малыш мертв. И фотографии этого момента для меня — большая ценность».
— Вы освещали смерть своего папы в Instagram. Что это был за жест для вас? Как к этому отнесся сам папа?
— Папа не был в курсе, но при этом, мне кажется, я смогла сохранить его личные границы. Это была история больше в контексте меня, как дочки паллиативного пациента, которая рассказывает о том, что случилось в ее жизни. Фокус внимания больше был на том, как поменялась моя жизнь, что я для него делаю, что происходит в нашей семье, как я совмещаю работу, быт и уход за лежачим больным.

На вопрос, почему я это делала, у меня нет однозначного ответа. Как и многие мои респонденты и участники исследования, я просто чувствовала тягу, мне хотелось это зачем-то сделать. Уже потом я поняла, что это был мой способ успокоения и рефлексии, и источник получения огромной поддержки. За мной наблюдали друзья и просто подписчики, которых я не знала, и они действительно каждый день интересовались, спрашивали, помогали, предлагали какую-то свою поддержку.
Это такая классическая история всего смерть-просвета — чувствовать, что ты такой не один. Для меня это была такая самопомощь, когда я могу опереться на огромное количество людей, просто рассказывать ежедневно свою историю и знать, что есть люди, готовые меня выслушать.
Вторая важная вещь — это, конечно, фактическая помощь, которую люди оказывали. У меня был тогда маленький профиль в Instagram на сто человек, а я искала определенного врача определенной больницы, и оказалось, что родители моей подруги с ним дружат. Потом мы вместе с Катей Овсянниковой, руководительницей «Хосписа на дому» даже записали бесплатную лекцию о том, как подготовиться и пережить смерть любимого человека. В ней я говорила, что если вам нужна помощь, то выход из этого шкафа даже с аудиторией в 100−200 человек может спасти вашего любимого человека. Я очень рада, что это сделала, потому что это действительно на какое-то время спасло папу. Он попал в больницу к определенному врачу, который занимался именно его видом рака.
Ну а еще, наверное, сработала моя тяга к исследовательской деятельности. Мне было просто интересно анализировать себя в период, когда умирает любимый человек. У меня было очень много текстов, осмысляющих папину болезнь, и потом осмысляющих момент смерти, потому что папа умер у меня на руках.
Вообще у папы удивительная история — он прожил с онкологическим диагнозом почти 30 лет. В первый раз диагноз ему поставили, по-моему, в 1994-м году. Следующий раз он попал ко врачу в году 2014-м, когда у него случилась прогрессия. Он немного полечился, год полежал в больнице, где прошел восемь или девять курсов химиотерапии. А потом он отказался лечиться наотрез. Сказал, что полежал в больнице и с него хватит.

У него был лимфолейкоз, а потом появился второй вид рака — плоскоклеточный. Произошло быстрое его развитие, у него был распад опухоли голени. По-хорошему он ждал ампутацию, но не дождался. Папа достаточно быстро вошел в терминальную стадию, умирал дома. И в течение двух недель после того, как мне сказали, что у папы терминальная стадия и его не вылечить, он умер.
Он не хотел в хоспис. Папа, как мне кажется, знал, что он умирает, и он не хотел, чтобы это произошло в больнице. Он сказал, чтобы мы с братом забирали его домой. Мы с ним ехали в скорой помощи, он держал меня за руку: «Лиза, как ты думаешь, это же хоспис?». Я стала говорить, что мы сейчас приедем в больницу, что там его положат в реанимацию и что-то сделают. А папа сказал: «Нет, заберите меня домой, я буду дома». А еще сказал: «Мне очень страшно».
Фрагменты интервью людей, сделавших потсмортемы близких. Из исследования Лизы Светловой.
Про прощание с бабушкой:
«У меня нет и не было страха, отвращения. У меня нет вопросов, зачем это нужно было делать, это казалось и кажется мне естественным процессом и сохранением памяти о важном, пусть и очень грустном событии. Не было желания запомнить бабушку только живой и в лучшие годы, я хотела запомнить ее и такой тоже».
Про фотографию мертвого отца:
«У меня в то время была какая-то дереализация, я сомневаюсь в своих воспоминаниях. Еще, как ни странно, мне стало спокойно благодаря снимку. Наверное, потому что наши отношения были очень яростными и склочными, а на фото мы умиротворенные».
— Как вы сами вернулись к жизни после смерти близкого человека? Сколько вообще на это требуется времени?
— Иногда мне хочется сказать, что я до сих пор не вернулась [к жизни]. Папина смерть сильно на меня повлияла. У меня есть текст, где я пишу о том, что поняла значение слова «таинство». Он о том, что таинство может произойти в маленькой, плохо пахнущей из-за лекарств и болезни квартирке на Васильевском острове, когда ты наблюдаешь, как человек уходит. Наверное, первый шок и ужас осознания прошел через года полтора.
Через два года у меня наступила какая-то точка успокоения, когда мы сделали выставку его памяти. И это было огромное событие, и по отзывам зрителей (а на открытии было больше двухсот человек) выставка действительно удалась. Вообще, один из способов сосуществования с горем — это проект памяти. И я такой проект памяти сделала. Это было одной из опорных точек к возвращению в жизнь.
Может, звучит очень пафосно, но людям умерших родных очень важно знать о том, что с ними все хорошо, что они сделали в девяносто девяти процентов случаев все, что они могли сделать. Потому что есть эта накатывающая волна вины, которая присуща почти всем.
Посмертные фото с папой избавляют меня от этого чувства вины. Я знаю, что я сделала для папы все, что я могла. Для меня это успокоение: все, что он хотел, мы исполнили. Я думаю, что без посмертной фотографии мое горевание пошло бы вообще по другой траектории, это было бы очень больно и страшно.
— Это уход папы повлиял на ваше решение сделать конференцию о смерти?
— Нет. Многие так думают. Папа умер, когда я уже года два была в теме. Мне одновременно и повезло с исследовательской точки зрения прожить такой опыт, и не повезло — ушел мой любимый человек.
С конференцией все сложилось следующим образом. У нас появилось в Петербурге death cafe. Его на тот момент вела Лиза Заславская, психолог и философ. И она придумала в его рамках делать микроконференции про смерть, где 4−5 человек выступают по 10 минут. Я выступила на этой первой конференции и влюбилась в этот формат. На тот момент меня пригласили на Уральский open talk поговорить о современной посмертной фотографии, и я сказала Лизе, что хочу сделать такую конференцию, только большую, чтобы было больше спикеров, а второй день сделать практическим. И она разрешила.
Я сделала такую конференцию, а потом поняла, как же это офигенно. Дальше я забрала себе проект конференций, потому что была готова его развивать, а не делать это самоорганизованной инициативой.
У такого формата есть огромный потенциал, потому что я увидела, как десятки и сотни человек в своих профессиях соприкасаются со смертью, и это могут быть очень неожиданные профессии. Например, историки моды, архитекторы, которые строят крематории, музыканты, которые пишут реквиемы.
Каждую нашу конференцию мы стараемся сохранить этот междисциплинарный подход, поскольку моя профессиональная жизнь так или иначе разделена на две части — смерть и современное искусство. В 2022 году мы делали потрясающую интерактивную онлайн-выставку о смерти с полным погружением. В прошлом году мы пошли еще дальше и сделали после конференции after party с бурлеском. Все номера были смертельного репертуара — вдова, Крампус, паучиха, фем фаталь. А в этом году будет арт-секция с тремя художниками, которые будут рассказывать о проектах, созданных в память кого-то из членов семьи. В общем, мы верим, что на тему смерти можно и нужно говорить на всех языках — и науки, и искусства.

— Легко ли разговаривать на тему смерти во время войны? И случались ли у вас неприятности из-за того, чем вы занимаетесь?
— В прошлом году мы делали офлайн-мероприятие в Петербурге, и в этом году собирались делать офлайн, но мы столкнулись с отказами залов. Была формулировка: «Для этой темы нет места в нашем зале». Ну нет так нет. И я наступила на горло собственной песни, потому что мне хотелось сделать большую конференцию с фотозонами, партнерами, фирменным мерчем. Мы же стараемся ежегодно выходить на новый уровень. И теперь мы делаем конференцию онлайн — она пройдет 3 ноября.
В одном из медицинских центров с конгресс-залом, где мы хотели провести конференцию, нам сказали так: «Теме смерти не место в лечебном учреждении». А где же тогда ей место?
Я абсолютно уверена, что они просто испугались. До этого мы общались с ними по телефону, я им показывала презентацию конференции, драфт программы, социальные сети и объясняла, что у нас в партнерах центр донорства крови, «Хоспис на дому», говорила, что мы сотрудничаем с врачами — трансплантолагами, гинекологами. И после этого мне сказали, что нам у них не место.
Первая наша конференция прошла в 2022 году, так что сравнить я не могу, как было до и как стало после. Но, наверное, о смерти было легче говорить до 2022 года.
У нас вообще был, можно сказать, смерть-бум: было много опен-толков на тему смерти в России, тема бессмертия поднималась на различных биеннале. А сейчас чувствуется вот это: «Что? Тема смерти? Нет-нет-нет». Но потребность говорить про смерть у людей никуда не девается, а мы создали пространство, где это сделать можно.
У нас было одно-единственное сообщение после конференции о том, почему мы не говорим о военных действиях. Но догадайтесь с трех раз почему? Я и моя команда живут в России, 90% спикеров тоже живут в России, и мы находимся в рамках российского законодательства.
Это моя ответственность, чтобы конференция проходила безопасно. Мы и так все время под риском, что к нам кто-то придет, что-то найдет и докопается. Но мне также пишут люди, которые умеют читать между срок, и они благодарят меня за то, что я делаю. Например, мы можем говорить про смерть во французском кино или про паллиатив, но все всё понимают.
Нужно ли говорить про смерть, когда смерть вокруг? Нужно, потому что ее избыточного потенциала не хватает, его нужно где-то разряжать.
Есть такой документальный фотограф Джеффри Сильверторн, который снимал работу судмедэкспертов. В каком-то интервью он признался, что смерть настолько была везде, что воздух можно было резать ножом от напряжения. Он сказал, что не нашел ничего лучше, чем пойти работать в морг, чтобы хоть как-то с этой смертью соприкоснуться и увидеть ее, чтобы получить эту разрядку.
— Остаётся еще что-то в смерти, что вас лично пугает?
Это большой стереотип, что люди, которые занимаются исследованием смерти, её не боятся. У каждого свой путь. Кто-то приходит в нашу смертельную тему, потому что не боится. Кто-то приходит, вначале боится, а потом перестает. Кто-то приходил и не боялся, а сейчас стал бояться. Вариаций много.
Я смерти очень боюсь, и я в этом не стесняюсь признаваться. Понятно, что у меня есть какие-то, я это называю, протоколы безопасности. Например, у меня есть психолог, у меня есть люди, которым я могу позвонить, когда меня действительно эмоционально что-то захлестывает. У меня есть то, что называется «комфорт муви» — то, что я могу посмотреть, когда мне становится грустно и тяжело. Я не работаю на ночь, потому что я знаю, что очень эмоциональна, и мне будут сниться тяжелые сны.
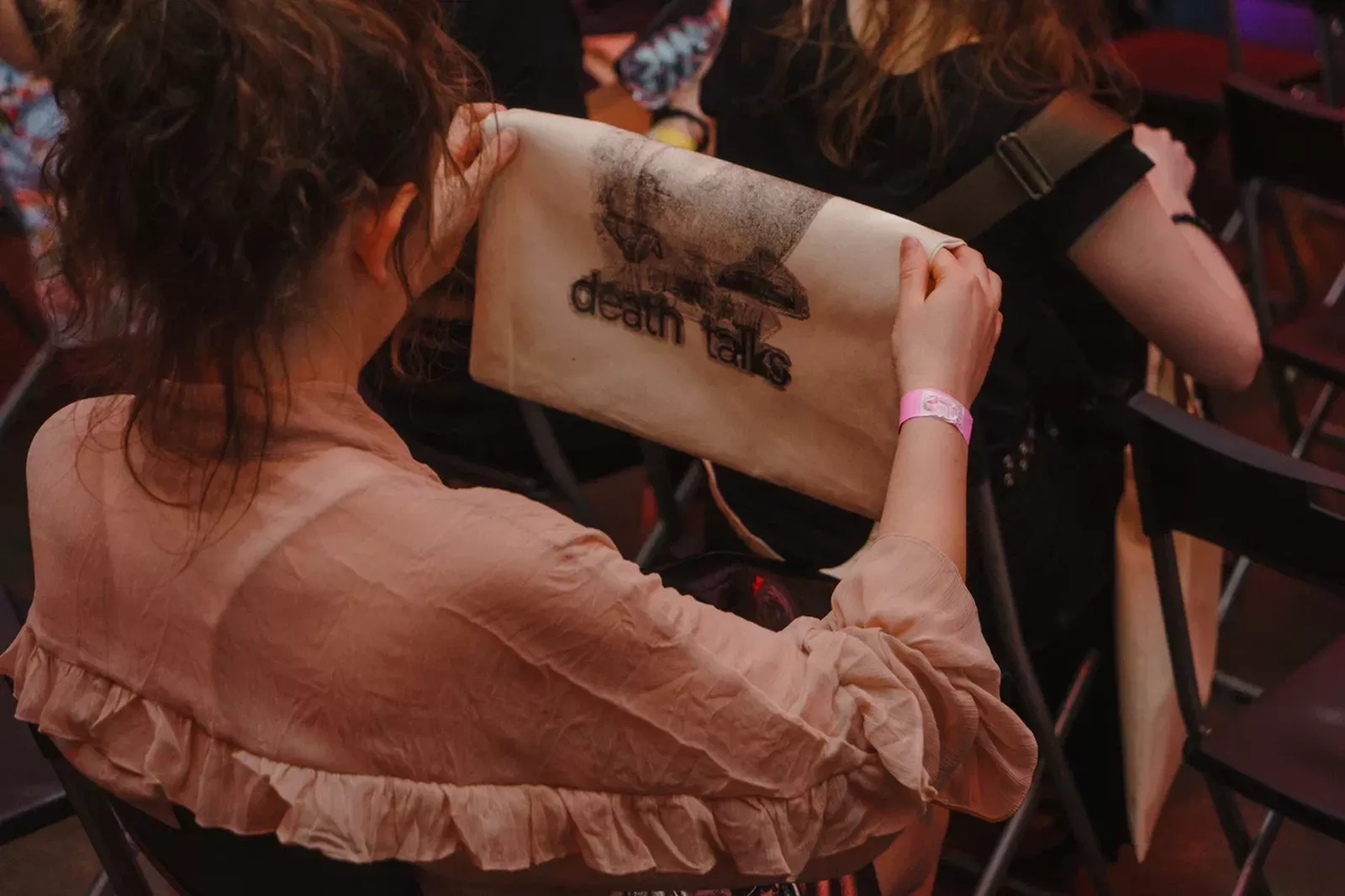
У меня стоит диагноз «генерализированное тревожное расстройство», но оно не из-за того, что я работаю с темой смерти. Скорее, наоборот: я работаю с темой смерти именно потому, что я ее боюсь и у меня тревожное расстройство. Мне спокойнее находиться в среде, где мне объясняют какие-то процессы и законы.
У меня была мысль начать развивать мое второе исследование о визуальной риторике трагедии и катастроф. О том, как человечество через современное искусство, музейную работу и документалистику переосмысляет разные трагедии и катастрофы, которые в мире происходили. И когда начинаешь читать про 11 сентября, про Беслан и Курск, то начинает охватывать паника. Я действительно задалась вопросом: «А хватит ли у меня моральных сил этим исследованием заняться?».
— Можно ли говорить, что все, чем вы занимаетесь — и конференция, и книги — это делается для того, чтобы уменьшить страх перед смертью?
— Ну пока мне это не помогло. Как будет в будущем, я не знаю. Кто-то действительно может уменьшить свой страх перед смертью. Но кажется, мне больше поможет психотерапия, честно говоря, чем мои книги или конференция.
Просто конференция — это то, чем я горю. Я верю, что делаю крутой, социально значимый и уникальный проект. От нее я получаю искреннее удовольствие. И пока я его буду испытывать, я буду это делать. Я не зарабатываю с этого денег, но я получаю фидбек, который говорит мне о том, что я делаю что-то важное и делаю это не зря.














