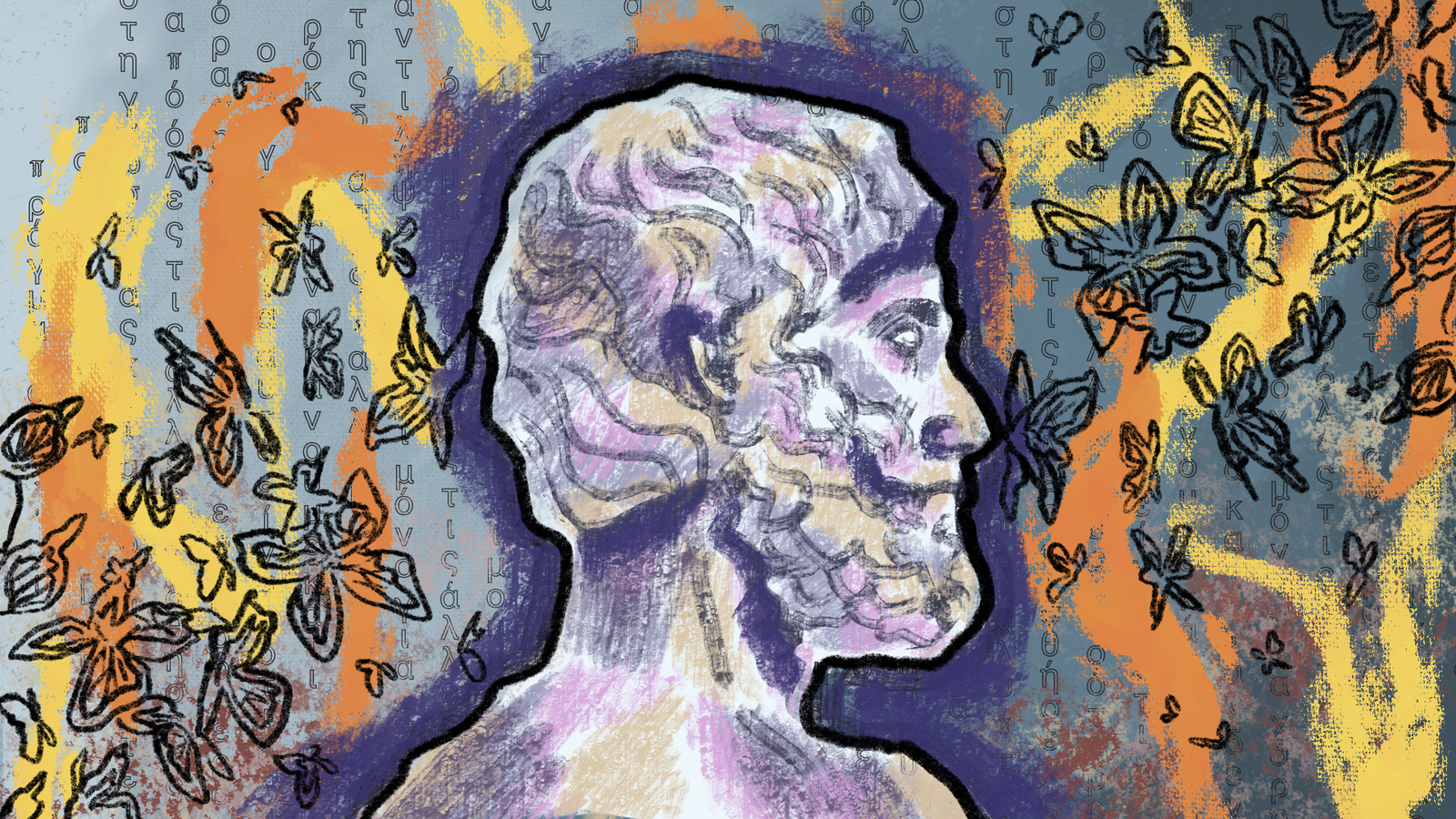Чтобы быть счастливым, нужно действовать конструктивно и любить себя — такой рецепт хорошей жизни предлагал Аристотель своим ученикам в IV веке до нашей эры. Что это значит на практике и почему идеи древнегреческого мыслителя актуальны для XXI века, рассказывает Эдит Холл — антиковед, докторка философии, признанная The Guardian одной из ведущих классицистов Британии. Мы перевели ее статью об античной моральной философии, в которой ученая объясняет, как работает аристотелевская модель максимизации счастья, что является самой трудной человеческой проблемой, в чем преимущества созданного Аристотелем прототипа «умной толпы», по каким критериям философ предлагает оценивать действия политиков, как рассчитывается формула удовольствия и почему, несмотря на нестерпимые бедствия, аристотелевцы все равно сохраняют возможность жить хорошо.
Современное направление ‘self-help’ (самопомощь) во многом опирается на философию стоиков. Однако Аристотель понимал настоящее человеческое счастье лучше.
В западном мире лишь с середины XVIII века стало возможным публично обсуждать этические вопросы без обращения к христианству. Современное представление о морали, где богов не существует или, по крайней мере, они не вмешиваются, только зарождалось. Однако древние греки и римляне разрабатывали крепкие философские школы этической мысли на протяжении более чем тысячелетия, от первых исповедующих агностицизм, таких как Протагор (V век до н. э.), до последних языческих мыслителей. Академия платоников в Афинах существовала до 529 г. н. э., пока ее не закрыл император Юстиниан.
Эта давняя традиция моральной философии — бесценное наследие античной цивилизации Средиземноморья.
Она побудила некоторых современных светских мыслителей, столкнувшихся с моральным вакуумом после упадка христианства конца 60-х годов XX века, возродить древние школы мысли. Есть сторонники и у стоицизма, основанного в Афинах киприотом Зеноном примерно в 300 г. до н. э. Самопровозглашенные стоические организации по обе стороны Атлантики предлагают курсы, ведут блоги, публикуют книги и даже проводят ежегодную стоическую неделю. Некоторые стоические принципы легли в основу известной self-help книги Дейла Карнеги «Как перестать беспокоиться и начать жить» (1948). Он рекомендовал читателям «Медитации» Марка Аврелия. Однако подлинный древний стоицизм был пессимистичным и мрачным. Он осуждал удовольствие. Требовал подавления эмоций и физических аппетитов. Рекомендовал безропотно смириться с несчастьем, а не активно решать мелкие повседневные проблемы. В нем оставалось мало места для надежды, человеческого участия или конструктивного отказа от страданий.
Менее известен рецепт счастья (эвдемония), предложенный Аристотелем, хотя о нем можно многое сказать. За пределами факультетов философии, где неоаристотелевские мыслители, такие как Филиппа Фут и Розалинд Херстхаус, отстаивали этику добродетели как альтернативу утилитаризму и кантианству, этот рецепт, к сожалению, не так хорошо известен.
В своем лицее в Афинах Аристотель разработал модель максимизации счастья, которая может быть реализована отдельными людьми и целыми обществами, и она актуальна по сей день.
Эта модель получила известность как «перипатетическая философия», благодаря тому, что Аристотель вел философские дебаты, прогуливаясь в компании своих собеседников.
Фундаментальный принцип перипатетической философии таков: цель жизни — максимизировать счастье, живя добродетельно, реализуя собственный человеческий потенциал и участвуя во взаимовыгодной деятельности с другими: семьей, друзьями и согражданами. Люди — животные, и поэтому удовольствие от ответственного удовлетворения физиологических потребностей (еда, секс) — это руководство к хорошей жизни. Но поскольку люди — продвинутые животные, по своей природе склонные жить совместно оседлыми сообществами (полисами), мы — «политические животные» (zoa politika).
Люди должны взять на себя ответственность за собственное счастье, поскольку «бог» — это удаленная сущность, «недвижимый двигатель», который может поддерживать движение вселенной, но не имеет никакого интереса к человеческому благополучию и не имеет никакой провиденциальной функции в вознаграждении добродетели или наказании безнравственности. Тем не менее намеренно представить себе лучшую, более счастливую жизнь возможно, поскольку люди обладают врожденными возможностями, которые позволяют им способствовать индивидуальному и коллективному процветанию. К ним относятся склонности задавать вопросы о мире, обдумывать действия, активировать осознанные воспоминания.
Оптимистичный, практичный рецепт счастья Аристотеля созрел для повторного открытия. Этот рецепт предлагает человечеству, сталкивающемуся с проблемами третьего тысячелетия, уникальное сочетание светской, основанной на добродетели, морали и эмпирической науки, ни одна из которых не ищет ответов в какой-либо идеальной или метафизической системе, не доступной чувственному восприятию.
Но что имел в виду Аристотель под словом «счастье», или «эвдемония»? Он не верил, что счастья можно достичь путем накопления в течение жизни материальных благ, богатства, общественного признания; оно является внутренним, личным состоянием ума. Однако он также не верил, что счастье — это непрерывная череда блаженных настроений, потому что ими мог наслаждаться и тот, кто целыми днями загорал или пировал. По Аристотелю, эвдемония требовала реализации возможностей человека, чего нельзя было достичь солнечными ваннами или пирами. Он также не считал, что счастье определяется общей долей нашего времени, затрачиваемого на получение удовольствия, как, например, утверждал ученик Сократа Аристипп из Кирены.
Аристипп разработал этическую систему под названием «гедонизм», утверждая, что мы должны стремиться к максимизации физиологического и чувственного наслаждений. В XVIII веке утилитарист Иеремия Бентам возродил гедонизм, предположив, что правильной основой для морали и закона является то, что обеспечивает наибольшее счастье для наибольшего числа людей. В манифесте «Введение в основания нравственности и законодательства» (1789) Бентам фактически изложил алгоритм количественного гедонизма для измерения общего коэффициента удовольствия — «гедоническое исчисление».
Общий коэффициент удовольствия, по Бентаму, высчитывается исходя из следующих переменных:
- Насколько интенсивно удовольствие?
- Как долго оно будет продолжаться?
- Является ли оно единственно возможным результатом действия, которое я рассматриваю?
- Как скоро я его получу?
- Будет ли оно продуктивно, повлечет ли за собой дальнейшее удовольствие?
- Гарантирует ли оно отсутствие болезненных последствий?
- Сколько людей испытают его?
Ученик Бентама, Джон Стюарт Милль, напротив, считал, что такой «количественный гедонизм» не отличает человеческого счастья от счастья свиней, которое может быть обеспечено непрекращающимися физическими удовольствиями. Милль представил идею о том, что существуют разные уровни и виды удовольствия. Телесные удовольствия, одинаковые для человека и животного, такие как удовольствия от еды или секса, являются «низшими» удовольствиями. Психические удовольствия, как те, что мы получаем от искусства, интеллектуальных споров или хорошего поведения, «высшие» и более ценные. Эту версию гедонистической философской теории обычно называют пруденциальным гедонизмом, или качественным гедонизмом.

Сегодня не так много философов, отстаивающих гедонистические теории, но в общественном понимании, когда «счастье» не определяется как обладание набором «внешних» или «объективных» благ, таких как деньги и успех в карьере, оно описывает субъективный гедонистический опыт — преходящее состояние восторга. Проблема с обоими такими взглядами, по Аристотелю, заключается в том, что они пренебрегают важностью реализации человеческого потенциала. Он одобрительно цитирует исконную греческую максиму о том, что никого нельзя назвать счастливым, пока он не умрет: в конце концов никто не хочет на смертном одре признать, что он не реализовал свой потенциал.
В своей книге «Пять откровений о жизни» (2011) медсестра паллиативной помощи Бронни Вэр описывает именно те опасности, которых Аристотель советует нам избегать. Умирающие говорят: «Хотел бы я иметь мужество жить собственной жизнью, а не жизнью, которой от меня ожидали другие». Джон Ф. Кеннеди резюмировал аристотелевское счастье так: «применение жизненных сил на пути к совершенству в жизни, дающей им простор».
Да, Аристотель настаивал на том, что счастье состоит из чего-то большего и отличного от накопления приятных переживаний.
Чтобы быть счастливыми, нам нужно поддерживать конструктивную деятельность, которая, по нашему мнению, направлена на достижение цели.
Это требует сознательного анализа наших целей и поведения, а также практики «этики добродетели» и «хорошей жизни». Необходимо работать над собой, чтобы развивать свои интеллектуальные и физические способности и определять свой потенциал (у Аристотеля были твердые взгляды на образование), а также приучаться быть лучшей возможной версией себя, пока не начнете делать правильные вещи привычно, на автопилоте.
Если вы намеренно дружелюбно отвечаете всем, с кем общаетесь, вы начнете делать это бессознательно, делая себя и других счастливее.
Исторически, многие философы, такие как эгоисты, задавались вопросом, желательна ли добродетель по своей сути. Но с середины XX века этику добродетели реабилитировали и сосредоточились на идеях Аристотеля: к сожалению, этот академический интерес еще не получил реального публичного присутствия в широкой культуре, как стоицизм.
Некоторые мыслители сегодня различают две подкатегории добродетели: такие добродетели, как мужество, честность и порядочность, влияющие на счастье ваше собственное и вашего окружения; и «добродетели благожелательности», такие как доброта и сострадание, которые приносят пользу другим, но с меньшей вероятностью удовлетворят их «агента». Но Аристотель, по которому для добродетели необходимо самолюбие, утверждает, что добродетели действительно имеют внутренние преимущества — эту точку зрения он разделяет с Сократом, стоиками и викторианским философом Томасом Хиллом Грином. Часть своей жизни Аристотель прожил при дворе в Македонии, который терроризировал безжалостный декадент Филипп II, чьи помощники и наложницы прибегали к заговорам, вымогательству и убийствам, чтобы добиться собственной выгоды. Аристотель знал, что такое аморальный человек и что такие люди часто субъективно несчастны, несмотря на внешние атрибуты богатства и успеха. В «Никомаховой этике» он писал:
«Никто не назовет человека совершенно счастливым, если тот не обладает ни частицей мужества, ни воздержания, ни порядочности, ни здравого смысла, но боится мух, которые летают мимо него, не может удержаться от самых возмутительных поступков, чтобы удовлетворить голод и жажду, губит своих самых дорогих друзей ради гроша…»
Аристотель говорит, что если счастье не послано богом, «тогда оно приходит в результате доброты, а также в процессе обучения, применения усилий». Каждый может вести образ жизни, который сделает его счастливее. Аристотель не предлагает волшебной палочки, чтобы устранить все угрозы счастью.
Действительно, существуют некоторые ограничения универсальной способности поиска счастья. Аристотель признает определенные преимущества, которые есть у одних, но отсутствуют у других. Если вам не повезло родиться на очень низкой ступени социально-экономической лестницы, или у вас нет ни детей, ни близких, или вы крайне уродливы, то эти необратимые обстоятельства, по его словам, «портят» наслаждение. С ними счастья достичь труднее. Но не невозможно.
Вам не нужны ни материальные блага, ни физическая сила, ни красота, чтобы начать тренировать свой ум вместе с Аристотелем, поскольку образ жизни, который он отстаивает, касается морального и психологического совершенства, а не заключенного в материальном богатстве или телесной красоте.
Есть, признает он, еще более серьезные препятствия, например дети или друзья, которые совершенно развратны. Другая проблема, которую Аристотель приберегает до последнего, а в других местах называет самой трудной проблемой, с которой может столкнуться человек, — это потеря хороших друзей или, особенно, потеря детей.
Тем не менее даже люди, мало одаренные природой или пережившие страшную утрату, имеют потенциал к хорошей жизни. Можно претерпеть даже кажущиеся нестерпимыми бедствия и все-таки жить хорошо: «Даже в невзгодах просвечивается добро, когда кто-то с терпением переносит повторяющиеся тяжкие несчастья; это не от бесчувствия, а от щедрости и величия души».
В этом смысле аристотелевская моральная система глубоко оптимистична. И это имеет практическое значение для «всех», подразумевая первый плюрализм Аристотеля: «Этот тип философии отличается от большинства других, поскольку мы спрашиваем, что такое добро, не ради того, чтобы узнать, что это такое, но с целью стать добрым — иначе наше исследование было бы бесполезным». На самом деле единственный способ быть хорошим человеком — это совершать добрые поступки и обращаться с людьми справедливо.
Для аристотелевца важно дружелюбие, но увлеченность этикой добродетели не должна разрушать вашу жизнь. Цель Аристотеля — моральная самодостаточность, неуязвимость для психологических манипуляций; однако он признает, что жизнь даже самого самодостаточного человека становится лучше, когда у него есть друзья. Он блестяще пишет о различных типах отношений, от брака или его эквивалентов до сотрудничества между коллегами и согражданами. Мы могли бы справиться в одиночку, но зачем нам выбирать изоляцию?
Более того, вам не нужно никакого «природного таланта» к добродетели, ведь, по Аристотелю, мы не рождаемся ни хорошими, ни плохими. Никогда не поздно: вы можете решить перевоспитать себя морально в любой момент жизни. И самый привлекательный момент:
Аристотель настаивает на том, что люди, которые хотят относиться к другим справедливо, должны любить себя. В его гуманной системе нет места ненависти к себе, самобичеванию или самолишению.
Аристотель задолго до Зигмунда Фрейда увидел, что наши биологические инстинкты естественны, а не отвратительны с моральной точки зрения. Это делает его этику совместимой с современным психоанализом.
Новаторская аристотелевская идея состоит в том, что якобы предосудительные эмоции — даже гнев и мстительность — необходимы для здоровой психики. В этом отношении философия Аристотеля контрастирует со стоическим взглядом, согласно которому, например, гнев иррационален и представляет собой форму временного безумия, от которой следует избавиться. Просто такие эмоции должны присутствовать в нужном, «среднем», количестве. Сексуальное желание, поскольку люди — животные, хорошо в меру. Как чрезмерный, так и недостаточный сексуальный аппетит ведут к несчастью. Гнев также важен для процветания личности. Апатичный человек, который никогда не злится, не сможет постоять за себя или своих близких, когда это необходимо, и не сможет достичь счастья. И все же гнев в избытке или в отношении не тех, кто виноват, — это порок.
Этика Аристотеля по своей природе гибка. Здесь нет строгих доктрин. Намерение всегда является решающим мерилом правильного поведения: Аристотель проницательно пишет о проблемах, возникающих, когда намеченные альтруистические цели требуют аморальных средств. Но каждая этическая ситуация уникальна. Один человек может прыгнуть в поезд без билета, потому что спешит навестить ребенка в больнице; другой может методично уклоняться от платы за проезд, когда едет на хорошо оплачиваемую работу. Аристотель считал, что общие принципы важны, но без учета конкретных обстоятельств, особенно намерения, они могут ввести в заблуждение. Вот почему он не доверял стандартизированным наказаниям. Он считал, что принцип справедливости должен быть неотъемлемой частью судебной системы, поэтому некоторые сторонники Аристотеля называют себя «моральными партикуляристами». Каждая дилемма требует детального изучения всех ее особенностей. Когда речь идет об этике, в этих деталях действительно может таиться дьявол.
С политической точки зрения базовое образование в области аристотелизма может принести пользу всему человечеству. Аристотель положительно относится к демократии, в которой он находит меньше недостатков, чем в других государственных устройствах. В отличие от своего элитарного наставника Платона, который скептически относился к интеллекту низших классов, Аристотель считал, что лучшими экспертами в любой заданной теме (например, в зоологии, признанным отцом-основателем которой он является) будут скорее те, кто накопил в ней опыт (например, земледельцы, птицеловы, пастухи и рыбаки), каким бы низким ни был их социальный статус; ученое сообщество должно быть информировано ими.
Доверие, которое Аристотель испытывал к общему здравому смыслу человечества, позволило ему создать прототип «умной толпы» — группы, которая вместо того, чтобы вести себя в «неотесанной» манере, использует распределение интеллекта, чтобы действовать с максимальной эффективностью.
Идея, представленная Говардом Рейнгольдом в книге «Умная толпа» (2002), была предвосхищена в «Политике» Аристотеля: когда многие люди собираются вместе для обсуждения и становятся «одним человеком со многими ногами, многими руками и многими чувствами, они становятся одной личностью в отношении моральных и интеллектуальных способностей».
Аристотель был первым философом, четко разграничившим злодеяние по бездействию и по злому умыслу. Невыполнение чего-либо, когда это необходимо сделать, может иметь такие же плохие последствия, как и проступок. Этот жизненно важный этический принцип влияет на то, как мы оцениваем общественных деятелей. Мы спрашиваем, ошибались ли когда-нибудь политики. Но как часто мы спрашиваем, чего они не сделали со своей властью и влиянием, что могло бы улучшить общественное благосостояние? Мы нечасто спрашиваем, что не смогли сделать политики, бизнес-лидеры, президенты университетов и финансовых советов, какие инициативы они никогда не выдвигали, тем самым отказываясь от обязанностей лидеров. Аристотелю также было ясно, что богатые люди, которые не используют значительную часть своего богатства для помощи другим, несчастливы (потому что они не действуют в соответствии с добродетельной серединой между финансовой безответственностью и финансовой подлостью). Но они также виновны в несправедливости по бездействию.
Аристотель — утопист. Он представляет, как однажды каждый сможет реализовать свой потенциал и использовать все свои способности (отличительный «аристотелевский принцип», согласно политическому философу Джону Роулзу).
Аристотель предвидит футуристический мир, в котором технологические достижения сделают человеческий труд ненужным.
Он памятует о мифических мастерах Дедале и Гефесте, конструировавших роботов, которые работали по приказу: «ибо если бы каждое орудие могло выполнять свою работу по приказу или заранее предвидя, что делать, как статуи Дедала в сказке или автоматические треножники Гефеста… если бы станки могли сами ткать, а медиаторы сами играть на арфах, мастерам не нужны были бы помощники, а хозяевам не нужны были бы рабы». Это почти как если бы он предвидел современные разработки в области искусственного интеллекта.
Политическая теория Аристотеля гибка. Вы можете быть капиталистом или социалистом, бизнес-леди или благотворительным работником, голосовать за (почти) любую политическую партию и при этом оставаться последовательным сторонником Аристотеля. Однако аристотелевский капиталист должен признать невыносимой нищету среди своих сограждан. Аристотель знал, что люди вступают в конфликт, когда товаров не хватает: «Бедность — причина революции и преступности». Стремясь обосновать политическую теорию основными потребностями человечества, Аристотель выдвинул самые передовые экономические идеи своего времени, именно поэтому Карл Маркс и восхищался им. Аристотель соглашается с рекомендацией «Законов» Платона о том, что огромное неравенство в имуществе, принадлежащем гражданам, вызывает разногласия в судебных тяжбах и отвратительное подобострастие по отношению к сверхбогатым. Тем не менее аристотелевские социалисты должны признать, что распространение обязательной общественной собственности на домашнее жилье не работает. Люди заботятся о вещах, потому что им нравится чувство частной собственности и потому что вещи имеют для них ценность; оба эти качества ослабевают, если ими поделиться с другими. Аристотель считает, что «каждый любит вещь больше, если она стоила ему хлопот».

Тот, кто не верит в изменения климата, не смог бы найти поддержки у Аристотеля. Как естествоиспытатель, доверявший тщательным исследованиям, основанным на многократных эмпирических наблюдениях и тщательной проверке гипотез, он был бы встревожен сегодняшними свидетельствами ущерба, нанесенного человеком окружающей среде.
Первое упоминание о вымирании видов в результате деятельности человека (чрезмерного рыболовства) встречается в «Истории животных» Аристотеля. Рассматривая людей как животных, он произвел трансформацию этических отношений между нами и нашей материальной средой, которая имеет безграничное значение.
Его приверженность плановой осознанной жизни, с долгосрочной и полной ответственностью за физическое выживание и душевное счастье, по мнению ученых и антиковедов, сделала бы его сегодня активным защитником окружающей среды.
Только люди обладают моральной свободой воли, и поэтому, как жители планеты Земля, населенной поразительным количеством растений и животных, они несут уникальную ответственность за их сохранение. Но люди могут также, благодаря своим уникальным умственным способностям, причинять ужасный вред: как сказал Аристотель, делая пугающее различие: «плохой человек может причинить в 10 000 раз больше вреда, чем животное».
Применимость холистического этического и научного мировоззрения Аристотеля к проблемам XXI века, таким как теократия и загрязнение окружающей среды, вызывает вопрос о том, почему общественность так мало осведомлена о его идеях. Самые широко цитируемые его идеи — предубеждение против женщин и одобрение рабства. Аристотель был зажиточным домохозяином и в «Политике» одобрял рабство в случае, когда греки порабощают не-греков, а также заявлял, что женщины неспособны к разумным размышлениям. Тем не менее он принял бы обоснованные аргументы против, если бы они были подкреплены эмпирическими данными. Он утверждал, что в каждой области знаний все убеждения должны быть постоянно открыты для корректировки: «Медицина усовершенствовалась за счет изменения системы предков, гимнастических тренировок и вообще всех искусств и способностей». Законы, по которым жили греки, были «слишком примитивны и нецивилизованны»: Аристотель приводит в пример устаревшие обычаи покупки жен и ношения оружия. Он настаивает на том, что кодексы законов нуждаются в пересмотре, «потому что невозможно, чтобы структура государства могла быть правильно оформлена на все времена во всех деталях».
И все же самая важная причина, по которой Аристотель так неизвестен, заключается в том, что сохранившиеся его работы представляют собой продвинутые трактаты, написанные специальным академическим языком для его коллег и учеников. На самом деле он написал несколько известных произведений для публики в доступной, легкой форме, и они побудили многие тысячи древних греков и римлян на протяжении последующих десяти веков практиковать этику добродетели. Среди них были как крестьяне-фермеры и сапожники, так и короли и государственные деятели. Как утверждал Фемистий, один из величайших древних комментаторов Аристотеля, он попросту был «более полезен для массы людей», чем другие мыслители. Это до сих пор верно. Философ Роберт Дж. Андерсон в 1986 году писал:
«Нет античного мыслителя, который мог бы более прямо говорить о проблемах и тревогах современной жизни, чем Аристотель. Также неясно, предлагает ли какой-либо современный мыслитель так много людям, живущим в наши неопределенные времена».
Одна из причин сегодняшнего возрождения стоицизма заключается в том, что он дает конкретные ответы на моральные вопросы. Этические же сочинения Аристотеля содержат мало четких указаний о том, как действовать. Аристотелевцы должны брать на себя полную ответственность за принятие решений о том, как вести себя правильно, и за регулярное применение собственных суждений. Главное преимущество, которое Аристотель может дать нам сегодня и которое делает его таким полезным и практически применимым, — это его альтернативная концепция «счастья».
Счастье нельзя приобрести с помощью приятных переживаний, а только лишь путем выявления и реализации нашего собственного потенциала, морального и творческого, в нашей конкретной среде, с нашей конкретной семьей, друзьями и коллегами, а также помогая достичь его другим.
Нам следует пересмотреть то, что мы делаем, и то, чего мы избегаем, потому что ошибки, вызванные бездействием, могут быть не менее разрушительны, чем те, которые влечет действие. Сюда же относится работа с эмоциональными импульсами, использование их в качестве руководства к тому, что хорошо, без позволения им диктовать наши действия. И нам следует делать это все постоянно, поскольку культивация добродетели и счастья, сопутствующая такому подходу, не может быть ничем иным, как самоцелью всей жизни.
Редакторка перевода: Анна Аксенова.
Читайте также:
Виноват ли Эдип? Античные представления о моральной ответственности
Новая этика: цинизм, гуманизм или нечто третье?
«Человек — это цель»: моральная философия Иммануила Канта
100 добрых дел, которые может сделать каждый
Ценность ценностей: что в жизни по-настоящему важно? Конспект лекции Альфрида Лэнгле
Проблема релятивизма в познании: возможно ли общее счастье?
«Вцепимся в слова, чтобы отвлечься от страданий». Лингвистическая психотерапия как способ осмыслить личное горе