Архивариус

«Когда мы познакомились, меня совершенно не интересовало его прошлое и ни разу не возникло искушения заглянуть в тот дневник, который он вёл с методичностью бухгалтера — странное, архаичное для тридцатилетнего парня занятие. Макс, конечно же, время от времени делился подробностями из своей жизни, но я всегда пропускал мимо ушей — зачем мне знать, что у него в бэкграунде? Я предпочитаю жить в настоящем». / Иллюстрации: alicetrijjet
Макс и Алекс — две противоположности: Макс бережно хранит связанные с воспоминаниями вещи, в которых находит утешение, Алекс же старается жить настоящим и стебет партнера за привязанность к прошлому. При переезде в новостройку обнаруживается, что пропала коробка с дневниками Макса. От этого у него сильно поднимается температура, и парня приходится госпитализировать. В это же время Алекс находит в квартире зашифрованное послание, которое ему предстоит разгадать. Чем закончится разворачивающаяся в режиме реального времени детективная головоломка, связанная с прошлым Макса?
Алексею В. — искренне, безо всяких намёков.
А также всем российским авторам, чьи книги в силу дискриминационного закона теперь не будут изданы в России, а уже изданные удалены с полок.
Кажется, зря мы переехали в эту квартиру — замечательную во всех смыслах за одним исключением: она была новой. Впрочем, это её качество совершенно не смущало меня, но тревожило Макса.
— Неплохая халабуда, — сказал он, — но я себя в ней не чувствую.
— В смысле?
— Не чувствую я себя в ней. Чего тут непонятного?
— Ты злишься?
— Нет.
— Всё-таки злишься, но уже поздно — факт свершился: мы переехали.
— А коробки? — спохватился Макс. — Ты их пересчитал?
— Думаешь, грузчики позарятся на наше барахло? Если что-то и пропало, то к счастью. От старья лучше избавляться. Купим новое.
Макс промолчал.
Нет, всё-таки сказал:
— Шкаф. Сколько тебе полок нужно в шкафу?
— Джинсы, футболки, трусы, носки… Одной хватит, — ответил я.
— Перебьёшься, — отрезал Макс. — Для всего перечисленного есть комод, — и вскрыл первую коробку.
— Господи Боже! Зачем ты это забрал? — спросил я.
— Что значит, зачем?
— Наша кудесница Ираида [читай: бывшая квартирная хозяйка] обвинит тебя в краже её имущества.
— Это моё имущество.
— Твоё? Все эти вазочки, чашечки, фарфоровые зайчики…
— Гипсовые…
— Да, прости, зайчики — гипсовые… Они все — твои? Это даже смешно.
— Ничего смешного. Мы с тобой живём уже три года…
— Разве?
— Три года и три месяца, если быть точным. И за всё это время ты так и не запомнил, что я ничего не выбрасываю.
— Я думал, это касается только нужных вещей.
— Эти вещи, — Макс ткнул пальцем в коробку, будто призывая её в свидетели, — все нужные. Вот этот гипсовый зайчик, например, на самом деле кролик, точная копия Роджера в масштабе один к пяти.
— Он совершенно не похож на Роджера.
— Он — вылитый Роджер! Только ты имеешь ввиду мультяшку, а я — настоящего голландского кролика, которого держал много лет назад. Когда Роджер ушёл на радугу, мой дедушка, чтобы хоть как-то меня утешить, вырезал его по фотографии — мне на память.
— Два других гипсовых кролика — это менее удачные дубли?
— Нет, это родные братья Роджера — Майкл и Джексон. Они втроём жили в одной большой клетке. Когда я выпускал их погулять, Роджер стучал по полу лапой, а двое других передвигались так, будто были башмаками Майкла Джексона в клипе «Билли Джин». А потом они заболели и умерли… Кролики, разумеется, а не башмаки… Я очень горевал…
— Ми-ми-ми, — подразнил я Макса.
— Мне было всего девять! — возмутился он. — В этом возрасте все держат кроликов и горюют, если с ними что-то случается.
— Не все. У меня была собака.
— Вот видишь!
— Я не горевал, когда она умерла. Просто решил больше не заводить собак. Ты не проголодался?
* * *
За едой я спустился вниз. Хотел купить пирогов в кондитерской по соседству, которая недавно открылась, поэтому, чтобы привлечь покупателей, торговала с большими скидками. Новостройки тем и хороши, что любой бизнес, даже известный, стартует здесь с нуля, набирая клиентуру из окрестных жильцов, переехавших в новые квартиры и теперь вынужденных тоже начинать с чистого листа, заново обустраивая свои жизни.
В кондитерской помимо пирогов предлагали кофе. Я попросил сделать латте. Я мог бы сделать его и дома, но мне не хотелось возвращаться слишком быстро. Забрав с прилавка чашку, я присел за столик и дал Максу время расставить в шкафу свои воспоминания. Или запереть в нём свои скелеты. Что такого особенного могло быть с этими его вазочками? «Розовую мне подарила подруга, когда уезжала за границу. Богемское стекло, начало прошлого века. Есть трещина и вот здесь отколото, но выбрасывать жалко, потому что с ней многое связано — и с подругой, и с вазой. А белая мне досталась за победу в школьной олимпиаде по истории. Кубок изготавливать не стали, просто купили что подешевле и вручили. Но всё равно приятно. Про кроликов ты уже знаешь, а чашечки перешли в наследство от бабушки. Она была известной отравительницей. Своим гостям вместо сахара сыпала в чай мышьяк…»
Насчёт мышьяка, конечно, враньё. Я это сейчас выдумал на ходу. Как, впрочем, и все остальные сюжетцы о дорогих Максу безделушках. Когда мы познакомились, меня совершенно не интересовало его прошлое и ни разу не возникло искушения заглянуть в тот дневник, который он вёл с методичностью бухгалтера — странное, архаичное для тридцатилетнего парня занятие. Макс, конечно же, время от времени делился подробностями из своей жизни (рефлексии по былому — это его пунктик и одновременно конёк), но я всегда пропускал мимо ушей — зачем мне знать, что у него в бэкграунде? Семейные тайны? Ошибки юности? Случайные связи? Плевать! Я предпочитаю жить в настоящем.
* * *
— Как прошла инвентаризация непреходящих ценностей? — спросил я, когда вернулся.
— Не хватает одной коробки. Звони грузчикам.
— Ради твоего душевного комфорта я даже готов броситься за ними в погоню, настигнуть и четвертовать, но давай сначала поедим.
— Нет, сначала восстановим утраченное.
— Утраченное может подождать полчаса. Похитители не успеют далеко уйти. Границы перекрыты, аэропорты заблокированы, вылеты запрещены, в воздух подняты истребители для перехвата.
— Алекс, кончай валять дурака! Ты же видишь, в каком я состоянии!
— Прости, не думал, что пропажа какой-то винтажной рухляди так заведёт тебя.
— Идиот! Это не рухлядь! — он был почти в ярости.
— Вот сейчас ты особенно сексуален.
— Ты издеваешься?
— Нет, — я схватил Макса за брючный ремень и подтянул к себе. — Трахнул бы тебя прямо посреди этого развала.
— Ты меня специально злишь?
— Специально, — подтвердил я, наседая. — Потому что хочу секса и жрать. Жрать и трахаться. Во время секса. Одновременно с пирогами.
— Я буду кусаться!
— Кусайся — согласился я, пытаясь расстегнуть на нём рубашку. — Сколько угодно, в любых количествах. Ты ведь знаешь, я совершенно невосприимчив к боли.
— Мои дневники пропали! Они были в той коробке!
— Им несказанно повезло.
— Кому?
— Грузчикам, конечно же, — мне удалось зажать Макса в угол. — Теперь они узнают все твои тайны. Будут читать и дрочить. Возможно, даже друг другу…
— Дай мне их номер.
— Ого! Групповушка? Кого ещё позовём?
— Блядь! Алекс! Пусти! — он всё-таки вырвался. — Я поеду в ту контору, попробую застать грузчиков в офисе.
— Макс, ты заебал. Десятый час вечера. Там уже никого нет. Завтра я буду в центре, заеду за твоими летописями. Обещаю. А сейчас давай перекусим и соберём диван. Нам нужно на чём-то спать.
* * *
Ночью у Макса поднялась температура. К утру лучше не стало.
— Вызвать врача? — спросил я, собираясь на работу.
— Нет.
— Будешь помирать?
— Да.
— Хорошо. Медикаменты найдёшь в сумке, а в холодильнике — йогурт. Можешь съесть его весь. На обед что-нибудь закажи — бургер, суши, слона в кляре, свинью в апельсинах… Ужин я с собой привезу.
— Лучше привези мои дневники.
— Отличная идея. Запечём их в духовке.
— Алекс!
— Я пошутил. Съедим сырыми.
* * *
Вечером дневники я не привёз. Почему? Да без «почему» — просто было лень заезжать за ними. Макс обиделся так, будто я изменил ему у него же на глазах с теми грузчиками, которые вчера перевозили наши вещи.
— Может, всё-таки сменишь гнев на милость? — попробовал примириться я.
— Нет.
— А если я встану на колени?
— …
— Лягу на пол?
— …
— Вотрусь в него пылью?
— Не смешно.
— Приготовлю сёмгу в сливках, наконец?
— Алекс, я весь день себя херово чувствую, а ты доёбываешься со своими шутками!
Пришлось возвращаться в центр.
* * *
— Простите нас. Это — впервые. Грузчики сами не понимают, почему так получилось. Конечно, они уже наказаны… — оправдывалась девица за конторской стойкой.
— Могу я видеть свидетельства об их смерти, чтоб удостовериться?
— На первый раз мы только оштрафовали, но в следующий — будьте уверены… — она пыталась подыграть, но я не позволял:
— Вы слишком лояльны к разгильдяям, поэтому следующего раза у нас с вами не будет.
— А мы вам предоставим VIP-скидку, — не сдавалась она.
— Даже если я захочу переехать в Антарктиду?
— Даже если захотите перелететь на Марс.
— Вот уж дудки. С вашим сервисом ракета до Марса не долетит — шлёпнется где-нибудь в Крестове.
— Это такой населённый пункт?
— Да, в нём падают ракеты и вообще происходит страшное.
— Откуда вы знаете?
— Не берите в голову. Просто отдайте мне коробку и покончим с этим.
— Забирайте. Стоит в углу, дожидается, — улыбнулась девица.
— Это она? — спросил я.
— Это — она. Будьте аккуратны — очень большая и очень тяжёлая.
— Послушайте, если у ваших грузчиков получилось забыть её в кузове, почему они не догадались хотя бы облегчить её?
— Вы слишком плохо о нас думаете. Если хотите, помогу донести до вашей машины, — девица с готовностью встала.
— Нет уж, лучше сидите, — отказался я. — Без вас справлюсь.
Да, я был зол. Сначала выдержал восемь часов в офисе, где мне сделали голову все, начиная с шефа. Потом полтора часа простоял в пробках из центра до дому и ещё столько же в обратном направлении. В отличие от некоторых, я элементарно выдохся, пришлось даже пропустить тренировку. Но некоторым было наплевать — некоторые весь день чиллились в мягкой постельке, симулируя смертельно опасный недуг, а после устроили скандал из-за стопки старых тетрадей. Что можно было понаписать в них такого, что они весили, как каменные скрижали?
Пересекая тёмный двор, я споткнулся и выпустил коробку из рук. Она грохнулась оземь со звуком спелого арбуза. Содержимое вывалилось наружу. Помимо дневников там оказалась куча всякого хлама. Что-то наверняка сломалось или разбилось, в стороны раскатились всякие побрякушки, и я, ползая в грязи на карачках, был вынужден на ощупь собирать всё обратно. Спасибо тебе, дорогой Макс, надеюсь, теперь ты полностью удовлетворён!
* * *
— Ты поранился, — сказал Макс, встречая меня на пороге. — Сильно болит?
— Не болит. Я даже не заметил.
— Мертвяк несчастный. Почему коробка в таком виде?
— Отгадай с трёх раз.
— Понятно. Ничего не потерял?
— Нет. Сначала по-пластунски исползал весь двор. Обшарил его руками, заглянул во все крысиные норы и даже под фундамент. Потом прошёлся с металлоискателем. И ещё для верности вызвал бригаду археологов.
— А кроме шуток?
— Макс, мне нужно хотя бы умыться, а лучше — принять душ. Закинь, пожалуйста, рыбу в духовку.
Но он не закинул. Когда я вышел из ванной, он по-турецки сидел на полу в окружении своих манускриптов и прочих объектов культурного наследия из привезённой коробки. Их было много, хватило бы на лавку старьёвщика, и что-то из этой сокровищницы вызывало смех (комплект катафот от велосипеда, чайное ситечко, школьный компас), а что-то — оторопь (череп вороны, кастет и лимонка… не пугайтесь — учебная).
— Там царь Кащей над златом чахнет… — сказал я.
— Мне кажется, не хватает, — ответил Макс.
— О Боже! Чего не хватает? Злата?
— Пока не знаю.
— Если что, я не при делах. Опись вложений к содержимому не прилагалась, поэтому претензии по наличию рассмотрены не будут, — предупредил я, а через минуту из кухни добавил язвительно: — И прими мою сердечную благодарность за отменно приготовленную рыбу, — и вскрыл банку паштета, понимая, что заниматься ещё и ужином я сегодня не в состоянии.
* * *
Во сколько Макс лёг — для меня загадка. Похоже, полночи провозился в своих «запасниках». Утром я даже не стал его будить — пусть ещё денёк отлежится. А вечером случилось…
— Ваша светлость всё-то почивает? — спросил я, войдя в квартиру.
«Светлость» отмалчивалась.
— Макс, если ты под одеялом, затаив дыхание, скрываешь любовника, то у тебя есть возможность, пока я переодеваюсь, перепрятать его на балкон.
Макс пошевелился.
— Дружище, да ты весь горишь, — сказал я, потрогав ему лоб. — Почти полыхаешь, — и поставил градусник. Выждал пару минут, взглянул на результат и вызвал скорую.
* * *
— Соберите ему в пакет полотенце, мыльно-рыльное, тапочки, смену белья, — распорядился фельдшер, закончив осмотр.
— Госпитализируете? Поеду с вами. Можно? — спросил я.
— Кем приходитесь больному?
— А вы как думаете?
Фельдшер внимательно посмотрел на меня, что-то прикидывая; ответил:
— Можно. В приёмном покое, если будут спрашивать, скажете, что родственником.
* * *
Из больницы я вернулся за полночь. Первым делом достал ноутбук. Хотел, не откладывая, отправить жалобы в Минздрав, прокуратуру и ещё куда-нибудь. Нас четыре часа промурыжили в приёмном покое. За это время успели принять, осмотреть и распределить по палатам население небольшого микрорайона плюс двух бомжей и одного алкаша со сломанной челюстью. Ждите, говорили нам, у врачей много работы. Когда я сдвинул соседние скамейки, чтобы Макс мог хотя бы прилечь, на нас с ним наорали, мол, какого чёрта мы тут устроили зал ожидания. Словом, меня потряхивало.
«Прошу принять меры административного и уголовного воздействия к персоналу городской больницы №…» Я влёт настучал пышущую гневом строку и остановился. Деловые бумаги сгоряча, конечно же, не составляют. Чтобы успокоиться, сделал себе чай и решил фоном запустить джаз — идеальное умиротворительное для снобствующего эстета.
Распаковал усилитель с колонками и, пока подключал их да расставлял по местам, обратил внимание на интересное: угол, отведённый Максом под временное хранение его артефактов — этих гротескных преданий старины глубокой, теперь был пуст. Макс рассовал всю груду по полкам, оккупировав своим прошлым целую кладовку. Устроил полную каталогизацию. Угробил на это бессмысленное занятие весь вчерашний день, наверняка забывая принимать лекарства. Фанатичный безумец.
Однако, ликвидировав развал, Макс всё же оставил три предмета. Он положил их на диван, на видное место, расположив в ряд, с равными интервалами, последовательно друг за другом: первый — второй — третий, будто многоточие, будто сигнал, что закончить эту ревизию он не в силах или не имеет возможности. Или намекает, мол, продолжение следует…

Шёл третий час ночи. Эррол Гарнер колотил по рояльным клавишам, а я — по клавишам ноутбука. «Обращаюсь с жалобой на действия персонала приёмного отделения городской больницы № 40. Основанием для обращения стала халатность, проявленная медицинскими работниками по отношению к Ветрову Максиму Валерьевичу 1990 г. р. Данный пациент с высокой температурой был доставлен в приёмный покой указанной больницы 13 октября с. г. в районе 19:30. На протяжении 4 (четырёх) часов медицинская помощь ему не оказывалась, диагностические мероприятия не проводились. Мои неоднократные устные обращения медработниками игнорировались. На требование немедленно принять меры сотрудники отделения заявили, что симптомы ОРВИ не являются поводом для экстренной госпитализации, и, с учётом переполнения больницы, пациенту следовало бы отлёживаться на дому, а впредь — своевременно профилактировать простудные заболевания, с чем я лично полностью согласен, т. к. ближайшие выходные совпадают с моим тридцатипятилетием поэтому я хотел кое-кому сделать сюрприз и уже выкупил билеты в Прагу но теперь поездка находится под угрозой срыва потому что кое-кто дома не лечился а предпочитал ностальгировать рефлексировать и боюсь предположить мастурбировать на собственное прошлое любовно перебирая напоминающие о нём осколки обломки и ошмётки и вдоволь натешась оными беззаботно с лёгким сердцем угреться на больничную койку изображая из себя безнадёжно больного неспособного поднять ни руки ни ноги но таки сохранившего изрядно фантазии и язвительности дабы демонстративно я б даже сказал вызывающе оставить на разгадывание целый квест…
Квест. Впервые нечто подобное Макс проделал на пятый день нашего знакомства. Я пригласил его в ресторан, но из-за работы опоздал минут на сорок. Он, не дождавшись и, вероятно, обидевшись, решил надо мной поизмываться и передал через официанта упаковку с презервативом и скидочный купон на бутылку киршвассера.
— Что бы это значило? — спросил я.
— Ваш друг сказал, вы догадаетесь, — мерзенько улыбнулся официант, а я ответил ему тем же, потому что догадываться было особо не о чем. Макс желал сообщить: «Алекс, ты — гандон. Купи себе бухла по акции».
Ну куплю… А дальше-то что? Вылить его себе на голову, посыпать сверху пеплом и, проклиная тяжёлую судьбину, повеситься? Или просто надраться в одиночестве?
Или всё-таки не в одиночестве?
— Вы ничего не забыли? — снова спросил я официанта. — Может, к этому посланию прилагалось что-то ещё?
— Виноват, — так же мерзенько улыбнулся официант, — забыл. Прилагалось ещё это, — и протянул мне вчетверо сложенный листок; внутри — записанный карандашом адрес. Ну понятно… Оставалось перенести презерватив в конец этой цепочки, чтобы восстановить смысл. «Алекс, бери кирш, приезжай и трахни меня», — вот что на самом деле имел в виду Макс. Он просто хотел секса и заодно проверить мой ай-кью. Сучонок изобретательный.
А со временем выяснилось, что манера общаться криптограммами для него привычна.
— Почему словами-то нельзя? — спрашивал я.
— Потому что не всегда получается, — отвечал он и отчасти был прав. Как, например, сидя на юбилее моего начальника сказать, мол, поехали домой, я устал от его шуток за триста? Вслух — никак. Но можно взять на тарелку фаршированный помидор, надавить, чтоб наружу, как нечто недопереваренное, полезла начинка («Меня щас стошнит!») и положить рядом ключи от квартиры. Элегантное решение, не так ли?
И теперь Макс опять провернул свой трюк, оставив на диване зашифрованную эпистолу: плюшевый шпиц с испачканными лапами (раз), холщовый мешок с дырой (два) — и смысл становился понятен сразу. Однако третий предмет — моток лески — вызвал определённые затруднения. Его наличие в этой связке превращало весёлый розыгрыш в запутанный детектив. Мне пришлось поломать голову, пристраивая леску в сюжет, но финал каждый раз выходил абсурдным. Ок, спрошу у Макса, что он имел в виду, при встрече.
* * *
В больницу меня не впустили — карантин. Я стоял посреди фойе и прикидывал, как бы прорваться внутрь.
— Арчи! — окликнул кто-то сзади, и это был довольно неприятный сюрприз. Этим именем меня мог назвать только человек из моего школьного прошлого, поэтому я сделал вид, что не услышал и вообще это не я.
— Артур! — повторил настойчивый кто-то. — Прикинь, ты всё ещё должен мне рубль!
— Враньё, — обернулся я. — Все сроки давности истекли.
— А вот и нет! За двадцать лет успели набежать неплохие проценты, — это был низкорослый еврей в очках, которые делали его похожим на расшалившегося хорька.
— Здравствуй, Йозик, — сказал я.
— Да, это — я, — еврей предложил для рукопожатия свою узкую ладонь. — А это — ты! Здоровый стал, как конь. Прям не узнать. Но всё-таки узнать. Привет, Арчи.
— Не называй меня так.
— А как?
— Александром. Алексом. Сашей. Васей. Петей. Как угодно, но только не Арчи.
— Ты сменил имя?
— Сменил, забыл, похоронил под толстым слоем бетона.
— Понимаю тебя. После нашего дружного «Б» класса стоило бы сменить не только имя, но ещё и фамилию, и дату рождения, и, возможно, пол… А я по-прежнему Йозик. Правда, теперь с отчеством — Евгеньевич. Но за глаза всё равно зовут без… Впрочем, меня не напрягает…
— Слушай, Йозик, я тороплюсь. Дай мне свой номер, обязательно созвонимся…
— Не ври мне. Никуда ты не торопишься. Я просто тебя не отпущу.
— Правда, мне некогда…
— Я сейчас скажу одну вещь, и ты сразу будешь согласен на всё. Тут через дорогу к водке подают сногсшибательную солянку. Если б у меня была душа, я бы продал её только за одну ложку.
— К сожалению, не выйдет. Я за рулём.
— И что? Наймёшь такси. Пойдём же, я угощаю.
— Йозик, давай в следующий раз…
— Дружище, мы ведь сидели за одной партой. Вместе прошли через эту ебучую 45-ю школу славного града Крестова. Мы с тобой почти фронтовые товарищи. В конце концов, это мы были теми обсосами, которых чморили все, кому не лень. Нам есть, что вспомнить!
— Нет уж, вспоминать я не настроен.
Йозик вздохнул и снял очки, из весёлого хорька превратившись в умную крысу:
— Хочешь узнать, чем закончила святая троица?
— Надеюсь, ничем хорошим.
— Анчутко по синей лавочке угорел в бане. Бадзулло бомжует. А Волотов грохнул местного лесника и присел на двенашку. Год назад освободился, переехал сюда, работает в нашей больнице охранником.
— В вашей больнице?
— Да, по моей протекции. Не бойся, если он тебя увидит, то сам испугается.
— Я другое имел в виду.
— Ах вот ты о чём! — Йозик улыбнулся. — Я замглавврача, большая шишка. Прикинь, какое это наслаждение — встречать на проходной Волотова! В школе он звал меня жидом пархатым, а здесь — мило улыбается, потому что знает: будет плохо стараться, лишится премии, а то и работы.
— Йозик, я к твоим подчинённым имею серьёзные претензии. Даже жалобы приготовил к отправке.
— Мирным путём решить сможем? Или нужно кого-то показательно расстрелять?
— Моего парня мурыжили в приёмном покое четыре часа.
— Не удивительно. Наши зашиваются. Как фамилия?
— Ветров.
Йозик попросил подождать, сходил к справочному окошку и скоро вернулся:
— Через пару дней выпишем, ничего серьёзного, — и снова надел очки. — Поэтому пойдём бухать. До поросячьего визгу.
— Погоди… А что у него?
— Ковид не подтвердился. Анализы нормальные. Патологий не выявлено. Возможно, переутомление… Не переживай, приглядим за ним. И не тормози, пожалуйста — солянка стынет, а водка греется…
— Повидать-то его нельзя?
— Алекс, ты зануден до зубодробительного скрежета, — снова вздохнул Йозик. — Вообще-то, нельзя. У тебя даже перед носом объявление… — но договорить не успел, потому что его сотовый заорал «Хава Нагилу». — Всё, кончилась моя спокойная жизнь, — пожаловался Йозик и взглянул на экран. — Хрен я сегодня солянки поем, — и принял вызов. — Готовь жопу под уколы, — сказал он в трубку, а потом и вовсе скатился на одесский: — А я знаю?! …Вот и я тебя спрашиваю! …Пусть он принесёт, я дам деньги! …У меня диплом терапевта, а не строителя!
— Сколько она может выдержать? — теперь Йозик обращался ко мне. — Бечёвка. Обычная леска. Сколько она выдержит?
— Ну… Если хорошая, то килограммов пятьдесят… — ответил я.
— Ты слышал? — вернулся Йозик к трубке. — Пятьдесят килограммов! На ней же повеситься можно!
* * *
— Что тебе сделала эта несчастная псина? — спросил я Макса. Он меня поначалу даже не узнал, потому что Йозик, которого получилось уломать, настоял, чтоб я надел защитный комбинезон и маску. «А почему не противогаз?» — «А потому что, будь моя воля, я бы всех рассадил по одиночным камерам, дабы не разносили этот злоебучий вирус, не знаю, где вы его берёте!»
— Макс, это я, а не твой ангел смерти. Я привёз тебе плеер и пожрать.
— Не хочу, — сказал Макс.
— Врачи говорят, у тебя переутомление.
— Они идиоты. Когда у человека переутомление, он не чувствует себя так, будто распадается на атомы.
— В эти выходные мы с тобой летим в Прагу, чтобы отпраздновать мой ДэРэ. Это достаточный стимул, чтобы атомы вернулись на свои места?
— Алекс, ну почему ты всегда думаешь только о себе?
— Между прочим, я всю ночь не спал.
— Как это согласуется со сказанным?
— Я до самого утра составлял жалобы, потому что мне не наплевать, как тут к тебе относятся. Потом отпросился пораньше с работы, чтобы успеть сюда. По пробкам сделал крюк через рынок, чтобы купить тебе домашнего сыру. Уговорил замглавврача, чтоб меня пустили в палату. Согласился надеть вот это… — я развёл руки в стороны, демонстрируя, мол, полюбуйся, в каком маскараде приходится участвовать. — И, вообще, я беспокоился.
— Ты и «беспокоился» — это, как «гений» и «злодейство». Не смеши меня, чудовище, лишённое эмпатии.
— Я даже разгадал тот ребус, который ты оставил на диване, чем любезно подкинул мне ещё один головнячок!
— А хурмы ты не привёз?
— Вот это уже больше похоже на деловой разговор.
— Можешь помыть мне одну. …Спасибо. …И, кстати, ничего ты не разгадал.
— Я единственный эксперт в мире, способный разгадать твои головоломки. Я почти Роберт Лэнгдон. Мне даже на работе платят не за консалтинг, а за декодинг — за декодинг твоих шифрограмм.
— Ха-ха.
— Плюшевый шпиц, — я загнул первый палец. — Игрушка старая, но практически новая. Я имею в виду, что была изготовлена и приобретена давно, лет пятнадцать назад, но её почти не использовали. За исключением единственного раза, ради которого она была куплена. В этот единственный раз её с какой-то целью поместили в грязь — поставили на мокрую землю, а, скорее всего, опустили в неглубокую лужу, потому что её лапы испачканы основательно, но меньше чем на половину. Впоследствии их чистить не стали. То есть игрушку, как только она выполнила свою функцию, просто отправили на хранение.
Макс молчал.
— Мешок, — загнул я второй палец. — В нём что-то держали и в результате образовалась дыра — не прорезанная ножом, не прорванная руками, а прогрызенная. Следовательно, это что-то было живым и кусачим. Так?
Макс сосредоточенно ел хурму; ему было наплевать.
— Соединив первое со вторым, — продолжил я, — получаем кражу. Некий господин…
— Госпожа… — чавкая, уточнил Макс. — Молодая госпожа…
— Хорошо, — согласился я, — пусть будет молодая госпожа. Она гуляла с собакой и решила зайти, например, в банк…
— Нет, в кондитерскую за круассанами. После поездки в Париж молодая госпожа со своим немолодым господином завели привычку по утрам пить кофий avec croissants…
— Ах, какой romantique! Может, мы заведём по утрам нечто столь же восхитительное?
— Лучше поспать подольше. Не отвлекайся.
— Как вам будет угодно, mon Seigneur, — отвесил я подобострастный поклон. — Вернёмся же к молодой госпоже. Совершая утренний flâner, она зашла в confiserie, чтобы купить пару свежих croissants. Свою petit chien она привязала у входа, потому что внутрь с животными нельзя. Intrus insidieux, который следил за молодой госпожой, воспользовался моментом и в буквальном смысле совершил подмену: отцепив поводок от живой собаки, он посадил на него игрушечную. Скорее всего, insidieux даже предвкушал выражение лица её хозяйки, которая, выйдя из кондитерской, увидела бы не petit chien, а плюшевую пародию на неё… Скажи, Макс, ты ведь предвкушал? Vous aviez hâte de voir l'étonnement sur le visage de la jeune maîtresse, n’est-ce pas?
— Без комментариев, — ответил Макс.
— Далее, — кивнул я, — собаку нужно куда-то девать. Поводок уже занят, поэтому увести её нельзя да и сама она без хозяйки никуда не пойдёт. Тащить просто в руках неудобно — это не щенок, которого можно умыкнуть за пазухой; это взрослая особь, которая вырывается и кусается. Кстати, сколько ей было?
— А сам как думаешь?
— Я думаю, это был двухгодовалый немецкий шпиц весом не более десяти кило, потому что мешок подбирался с тем учётом, чтобы собака в него легко поместилась.
— Нести по улице десятикилограммовый мешок, который тявкает и брыкается… Как ты себе представляешь этот косплей на «Му-му»? Первый же прохожий заподозрит неладное.
— Именно поэтому собаку далеко не уносили, а спрятали поблизости. Например, в подвале соседнего здания или в заброшенном строении.
— Её оставили там прямо в мешке?
— Да.
— Она задохнулась?
— Нет, потому что прогрызла дыру.
— Она сбежала?
— Нет, потому что прогрызла слишком маленькую дыру. Это же элементарно, мой дорогой Адсон!
— Ватсон, — поправил меня Макс. — Мой дорогой Ватсон.
— Всю жизнь думал, что библиотекари читают хотя бы хрестоматийное. Я ошибался?
— Чёртов сноб. Хурма осталась? Можешь помыть мне ещё одну.
— Не об’жрёшься?
— Не об’жрусь. Ты остановился на самом интересном.
— Да, третий предмет — это самое интересное. Моток лески. Версий было несколько, но мой приятель Йозик, сам того не ведая, подкинул единственно верную. «На ней можно повеситься», — сказал он, невольно подтолкнув меня к печальному выводу: собаку убили. А для чего ещё может пригодиться леска в этой истории? Отмотали кусок, присмотрели в стене гвоздик и вздёрнули на нём. Или под потолком вместо люстры. Бедняжка покачалась, лапками подрыгала, поскулила, напоследок обкакалась… В деталях, прости, могу наврать, потому что не имею подобного опыта…
— Прекрати, — поморщился Макс. — Меня сейчас стошнит.
— Ой, а что случилось? Ты ведь сам оставил себе напоминание об этом, несомненно ярком, эпизоде своей биографии. Любовно собрал воедино свидетельства, заботливо хранил их годами… Даже нашёл повод мне похвастаться…
— Ты просто ничего не понял.
— Я действительно не понял — ни мотива, ни логики. Зачем ты это сделал? Хотел пошутить? Или отомстить? Или получить за собаку выкуп, но её хозяева оказались принципиальными — из тех, кто переговоров с террористами не ведёт? Но тогда какой смысл было проворачивать этот дурацкий трюк с подменой на игрушку? Этот трюк, конечно, наглый, однако в целом безобидный, даже забавный. Но, самое главное, он работает, как подсказка, как визитная карточка исполнителя. Что в итоге пошло не так, Макс? Я ведь в самом начале задал вопрос, что тебе сделала эта несчастная псина?
— А я днём раньше задал другой вопрос: не потерял ли ты чего из той большой коробки? Сейчас история с собакой выглядит, как убийство. Она выглядит так, потому что не хватает финального звена, четвёртого предмета. В действительности всё закончилось так, как ты даже представить себе не можешь, но ты умудрился проебать одну маленькую, как ты выражаешься, хрень, а эта хрень — важный элемент, который позволяет восстановить всю картину.
— О боже, Макс! Мне, по большому счёту, наплевать, убил ты собаку или нет. Когда это было? Пятнадцать лет назад? За этот срок она успела помереть своей смертью. Возможно, её хозяин тоже. Всё давно в прошлом.
— Ты реально ни фига не понимаешь. Мы состоим из прошлого. Мы без него просто не существуем.
— Я — прекрасно существую.
— Существуешь, но не живёшь.
— Алекс, — заглянул в палату Йозик, — кончай наглеть. Ты просил пять минут, а сейчас уже… Ты вообще смотришь на часы?
— Ещё минуту можно?
— Завтра или послезавтра мы Макса выпишем. Успеете наговориться.
— Полминуты…
— Да я вообще не имел права тебя пускать!
— Пятнадцать секунд на томный поцелуй…
— Какой, блядь, поцелуй во время эпидемии??!!??!!
* * *
На следующее утро в районе одиннадцати Йозик позвонил и сказал, что Макса перевели в отделение интенсивной терапии.
— Что это значит? — спросил я.
— Ничего хорошего, — ответил Йозик.
Я бросил всё и приехал в больницу.
— Алекс, я не могу тебя впустить.
— Йозик, я просочусь тенью, невзрачной ветошью…
— Это исключено.
— Тогда я подложу бомбу. Жертвы будут беспорядочные, массовые и кровавые.
— Есть только два легальных способа, чтоб ты попал внутрь — заболеть или поступить к нам на работу. Вид у тебя цветущий, поэтому сразу переходим ко второму: медицинскую специальность имеешь?
— Нет.
— Тогда можно в качестве инвентаря. Капельницей пойдёшь?
— А если серьёзно?
Йозик вздохнул и снял очки:
— Ты понимаешь, что Макс у нас не по адресу? Мы, конечно, симптомы снимем, но корень проблемы не устраним. Это очень похоже на психосоматику. Человек сам себя накручивает. Вам нужно к другим специалистам.
— К психиатрам?
— То есть, поводы для опасений уже были?
— Почему ты так решил?
— Потому что все начинают с лайтового варианта, с психологов. А ты сразу с козырей зашёл.
— Вот теперь я действительно не понимаю, как к твоим словам относиться.
Йозик развёл руками:
— Мы с тобой разговариваем, как два конспиратора. О чём речь-то идёт?
— Макс зациклен на прошлом. Возможно, в этом вся суть.
— Зацикленность на прошлом — не диагноз. Все зациклены.
— Я — нет.
— Ты-то как раз в полный рост да. Видел бы своё лицо, когда я рассказал про Волотова.
— Я даже не помню, кто это такой!
— Не ври. Помнишь.
— Хорошо. Стараюсь не вспоминать.
— Стараешься? Постарайся сейчас взять ручку со стола.
— Зачем?
— Постарайся, говорю, взять ручку с моего стола.
Я взял.
— Все прокалываются на этом фокусе, — усмехнулся Йозик. — Верни её на место.
Я вернул.
— А теперь выполни буквально. То есть, постарайся её взять.
И тут выяснилось, что я не понимаю, какое именно действие надлежит совершить.
— То-то и оно, — сказал Йозик. — Постараться нельзя. Можно только что-то сделать или не сделать. Либо взять ручку, либо не взять. Либо помнить что-то, либо не помнить. Но ты помнишь. Хоть и запер свои воспоминания в чулан, но всё равно прислушиваешься: «А что они там делают?» Иногда переговариваешься с ними — тайком, когда никто не видит. Но сознаваться в этом не хочешь. Тебе противна сама мысль о том, что они как-то влияют на тебя. Но они влияют. Кем бы ты сейчас был, если б не помнил о Крестове, о 45-й школе… о Волотове с его компашкой, наконец?
— Чушь! Я с пятнадцати лет только тем и занимаюсь, что выветриваю из себя душок своей малой родины.
— Ты, кстати, сидишь на кнопке.
— При чём тут кнопка?
— При том, что ты сидишь на ней уже минут двадцать. Вошёл и сразу плюхнулся на стул, не глядя. На нём лежала кнопка, но ты даже не ойкнул, а я ничего не сказал, потому что не успел. А потом мне просто стало интересно, когда же до тебя наконец дойдёт, что ты жопой сидишь прямо на острие?
— Йозик, не еби мозг. Не чувствую я никакого острия. С Максом-то как быть?
* * *
ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА ПАПА
Это была обычная ученическая промокашка, заполненная единственным словом, от руки написанным 210 раз подряд. Будто Макс оттачивал на нём каллиграфию. Или молил, многократно повторяя его на манер тибетских мантр. Либо пытался таким образом приучить себя к реальности чего-то свершившегося, но никак не укладывавшегося в голове. Судя по всему, чуть позже промокашка была датирована четвергом 13.09.2001 (при этом использовались чернила другого цвета) и вклеена первой страницей в толстую тетрадь, став началом, предтечей дневниковых записей Макса, которых к сегодняшнему дню набралось почти двадцать фолиантов.

Понедельник 17 сентября 2001
Сегодня приснился папа. Как будто сижу в комнате и слышу, кто-то зовёт меня: «Обернись! Обернись!» Выхожу на балкон, а это он стоит внизу и кричит, чтобы я скинул ключи. Я ему говорю, чтоб он поднимался так, я сейчас открою. А он спрашивает, когда вернётся мама? Я отвечаю, что мама уже дома, но, если он наденет свои велосипедные очки, она его не узнает, и можно спокойно переночевать в моей комнате. А он говорит, хорошо, только ненадолго заглянет кое-куда. Наверное, в почтовый ящик за квитанциями, думаю я и иду в коридор открывать дверь, но тут меня разбудила мама. Я чуть не заплакал и спросил, зачем она это сделала? Она ответила, что ей сегодня нужно пораньше, а я сказал, что вообще про другое спрашивал и пусть она не притворяется. А она сказала, что не притворяется и даже не понимает, о чём я. А я сказал, что всё она понимает. А она сказала, что, конечно, понимает и ей тяжело видеть, как я страдаю. А если она всё видит и понимает, тогда почему постоянно говорит, что я придумываю глупости? А это не глупости, я скучаю по папе! Я сказал ей, что она даже сон не дала мне досмотреть. Она спросила, какой сон? Я рассказал, какой сон и что папа кричал «повернись» и просил ключи. Тогда она сказала, если я опять расклеюсь при всех, как в пятницу, то это совсем никуда не годится, и разрешила не ходить сегодня в школу. Я попросил установить новых Героев, потому что папа мне не успел. Она попробовала и у неё не получилось. Я сказал, что так устанавливать неправильно, и папа сделал бы это по-другому. Она сказала, что узнает у ребят в офисе, как правильно, а вообще нам теперь нужно справляться самим. Я спросил, как нам теперь справляться самим без папы? Мама ответила, мы всё сможем, и она готова найти подработку, чтоб я ни в чём не нуждался. А потом сказала, не скучай, и ушла. Она просто не поняла, что сказала.
Вторник 18 сентября 2001
Сегодня соврал маме, что плохо себя чувствую. Сказал, что разболелся живот. Она ответила, этого ещё не хватало и, наверное, я всё сочиняю. Я сказал, не сочиняю и прижал руки к животу, как будто он болит. Мама сказала, что я плохой актёр, дала мне четыре таблетки угля и разрешила никуда не ходить. А потом сказала, что я начал спекулировать на своём горе. Я сказал, что не виноват, что на нервной почве болит живот. Мама рассмеялась и сказала, что на нервной почве живот болит только перед экзаменами, и спросила, есть ли у нас в школе психолог? Я ответил, что есть, но на сеансы к нему не пойду, потому что он дурак и он не сможет заменить мне папу. Тогда мама сказала, что найдёт другого. А я сказал, что сбегу из дома. А мама сказала, чтоб я не говорил глупостей, потому что она имела в виду психолога. А я сказал, что глупости говорит и делает она. Мама ответила, что ей некогда пререкаться и ушла на работу, а я включил телевизор. По первому каналу показывали фильм. Я не знаю, про что он, так как смотрел не с начала. А потом услышал, что во дворе кто-то кричит: «Поворачивай! Поворачивай!» Я сразу понял, что это не папа, потому что сны никогда не сбываются, но всё равно вышел на балкон. Внизу стоял рабочий. Он махал руками водителю грузовика, что тот не туда заехал. А потом я заметил, что грузовик случайно сломал скамейку, рядом с которой папа раньше чистил свой велосипед. Я подумал, вот бы сейчас закрыть глаза, досчитать до трёх, открыть их и чтоб грузовика не было, а была целая скамейка и рядом стоял папа. Но от скамейки остались только рожки да ножки, и даже велик притулить негде, да и притулять-то его некому, потому что папа — всё, эндид, из овер, is out of use, is out of stock, отсутствует в наличии или демонстрирует своё отрицательное присутствие…
Последняя фраза, разумеется, моя. Я её допридумал, потому что невозможно было без слёз умиления читать эти страдания юного Ветрова. Не знай я некоторых деталей, решил бы, что это не дневниковые записи Макса, а рукопись какого-нибудь автобиографического романчика, коим автор стремится избыть застарелую травму. Герой повествования идёт на неуклюжий подлог, рассчитывая всё-таки увидеть отца. Через раскрытое окно слышит голос, синонимичностью слов «обернись» — «повернись» — «поворачивай» отсылающий к недавнему сновидению. На мгновение голос дарит надежду, однако она иллюзорна, и герой собственноручно разоблачает этот обман, потому что не верит в сбываемость снов. Заехавший «не туда» грузовик олицетворяет разрушительное действие судьбы, а ключевой образ — это сломанная скамейка, символизирующая невосполнимость утраты. Жуть какая! Макс — неисправим; он неисправимо сентиментален.
Воскресенье 23 сентября 2001
Сегодня мама переставляла мебель, а я заметил пропажу нашей семейной фотки. Мы сделали её в Египте этим летом. Она была крутая, на фоне сфинкса. Висела над диваном, а теперь её там нет. Я спросил у мамы, куда она делась, а мама ответила, что пришлось выбросить, потому что случайно разбилась рамка. Но это враньё, потому что рамку вешал папа, и она не могла случайно разбиться. И фотка в этой рамке не могла случайно разорваться, а потом случайно оказаться в мусорке. Я попытался склеить всё скочем, но мама наорала на меня. Она сказала, чтоб я не смел заниматься ерундой, а я сказал, что это не ерунда, а память о папе. А мама сказала, что нельзя воскресить прошлое, поэтому нужно жить дальше. А я сказал, что не хочу жить дальше без прошлого и заперся в своей комнате. Немного поплакал, а потом уснул. Потом мама позвала кушать. Я сказал, что не буду, а потом увидел, что нет старого стеллажа в коридоре и ещё кое-каких вещей. Тогда я стал обшаривать квартиру и собирать в одну коробку: папину столярную рулетку, его строительные перчатки, набор саморезов, рыболовные снасти, велосипедные очки, две катафоты, сломанную Зиппо, коралловые бусы, подаренные маме. Ещё выдернул из альбомов часть фоток. Всего нашёл мало, потому что многое, пока я спал, она успела вынести на помойку. Я решил, пусть вещи, которые остались после папы, хранятся у меня. Мама назвала меня ненормальным и архивариусом на всю голову, а потом дала номер и сказала: «Позвони ему и передай, что я разрешаю вам видеться, но не чаще раза в неделю». Йессс!
Понедельник 24 сентября 2001
Сегодня заболела классная, поэтому нас отпустили с последнего урока. В квартире я застал папу. Очень обрадовался, что он пришёл. Мы договаривались встретиться на днях, но он объяснил, что планы изменились, поэтому решил заглянуть сегодня сам. Я спросил, почему он не снимает куртку, сейчас будем пить чай. Папа сказал, не снимает, потому что чувствует себя не в своей тарелке, то есть не совсем дома, так как мы сделали перестановку. Я сказал, что перестановку сделали не мы, а мама. Она выкинула старый стеллаж и вещи, которые в нём были. Но выкинула не всё — что-то положила в другое место, а что-то я успел спасти и сохранил у себя. Папа спросил, когда она придёт с работы? Я сказал, она придёт как обычно, сильно удивится и начнёт бухтеть, потому что несколько дней ходила на него злая, но мы можем приготовить плов и тогда мама не будет долго сердиться. Я сказал, не надо переживать, всё пройдёт хорошо и, если папа хочет, то сможет остаться на ночь, я уступлю ему кровать в своей комнате, а сам лягу на раскладушке. Папа сказал, это отличный план и отправил меня в кухню ставить чайник. Я поставил и решил нарезать бутербродов, а папа крикнул из комнаты, не знаю ли я случайно, где лежит синяя папка из старого стеллажа? Я ответил, не знаю, но можно посмотреть в спальне на полках. Потом папа заглянул в кухню и сказал, что ему надо отлучиться на часик. Я спросил: «Ты пойдёшь на почту?» Папа ответил, нет, а я решил бутеры пока не делать, чтобы они не засохли — лучше дождусь его. Сейчас 12 ночи, а он ещё не вернулся.
Наивный Макс! Папашу интересовали только документы из синей папки, которые он выкрал, чтобы подать на развод. Не спрашивайте, почему он их просто не попросил. Может, постеснялся; может, побоялся… А, может, перевернув очередную страницу своей жизни, не захотел возвращаться к уже пройденному. Честно говоря, я бы его поддержал в этом, если б не одно обстоятельство. Улетая тем же вечером в свадебное путешествие со своей новой пассией, он не счёл важным позвонить собственному сыну, который, ожидаючи, до поздней ночи просидел на подоконнике, глядя в окно.
Впрочем, извинения всё-таки последовали — спустя две недели и в виде хозяйственной сумки с крымскими фруктами. Макс простил. Однако дальнейшее протекало, как заведено в большинстве случаев: бракоразводный процесс, взаимные обвинения и некрасивые сцены между бывшими супругами. В результате раздела недвижимого имущества Макс с матерью вынужденно переехали, а потом, чтобы свести концы с концами, ей пришлось найти вторую работу. Хоть алименты и выплачивались исправно, но что такое четверть от двенадцати тысяч, которые бывший муженёк официально получал на должности руководителя мелкой мастерской? Однако то, что он зарабатывал неофициально, было недоступно для налоговой и невидимо для суда. Эти деньги позволяли шикануть, например, свозить молодую кралю на Рождество в Стокгольм, на Пасху в Сан-Себастьян, а в августе на целый месяц арендовать коттедж под Сиракузами. Максу перепадали лишь памятные сувениры: снежный шар с ангелочком, календарь с базиликой Санта Марии и, самое выдающееся, куриный бог на шнурке — образец невиданной щедрости, коими сицилийские пляжи усеяны, как помойки битым стеклом. Поэтому «папа» в дневнике быстро превратился в «отца», а к пятнадцатилетию Макса и вовсе деградировал до местоимения.
Среда 27 апреля 2005
Сегодня попросил у него денег на экскурсию. Наши классом собираются по Золотому кольцу на все майские. Надо пять триста. Я давно ничего не просил, даже про днюху не заикался. Он сказал: «А что мама?» Я ответил, что мама уволилась со второй работы, потому что не тянет, поэтому лишних денег нет. Он сказал, что у него с деньгами тоже туго, потому что они с Жанной собрались везти Клопселя в Москву на выставку, а это серьёзные траты: оплата участия, прививки, судейство, грумер. Плюс билеты и гостиница. Типа, почти пятьдесят тысяч набежало. Типа, содержать породистую собаку это очень дорого. Я хотел сказать, что содержать меня — дешевле, мне надо всего-то пять, а не пятьдесят, но решил промолчать. В общем, и так всё понятно. Он сказал, что выставка продлится один день, поэтому 2-го вечером они уже вернутся. А 9-го, если я не против, погуляем по городу, пожрём пиццы, сходим на салют. Можно подумать, я в своей жизни ни пицц не видел, ни салютов. Хоть бы погода была плохая, чтоб не так обидно было дома торчать.
Четверг 28 апреля 2005
Сегодня мама подтвердила: денег до 10-го не будет. Сказала, даже придётся брать в долг, потому что нужно срочно решать что-то с зубом. Я сказал, это нормально, когда кто-то тратит пятьдесят косарей на собачью выставку, а у кого-то нет денег на стоматолога, жизнь — боль. Мама посмеялась. Предложила на праздники съездить к деду. Сказала, это почти Золотое кольцо. Да, согласился я, Золотое кольцо по огороду вокруг грядок. И ещё — Дорога Жизни от крыльца к сортиру. Мама снова посмеялась. Я сказал, давай продадим мой велик. Она сказала, много за него не дадут и проще ограбить банк или взять в заложники министра финансов. Я сказал, что за министра точно дадут больше — вплоть до пожизненного. Поржали.
P. S. Зря мама про заложника сказала. Теперь вот думаю: -)))
Пятница 29 апреля 2005
Сегодня хотел встать аж на час раньше, но чуть не проспал. Маме соврал, что к первому уроку нас везут в оранжереи. Потом сообразил, что в это время они ещё закрыты, но было уже поздно. Правда, мама ничего не чухнула: -))) Я позавтракал, а потом собрал рюкзак, будто иду в школу. Чтобы мама случайно не увидела, что я поехал в другую сторону, на остановке сел в 10-й автобус. У поликлиники пересел во 2-й, потому что сначала хотел заскочить на вокзал, чтобы узнать расписание поездов. Оттуда на 47-м добрался до Жилищника. Прибыл где-то без десяти, даже хватило времени найти укрытие. Нужно было выяснить, как выгуливают Клопселя.
Выгуливают по старой схеме. Выводят в восемь и сразу идут в аллейку. Там — пи-пи, ка-ка и всё такое: -))) Потом чапают в кондитерскую. Сегодня Клопселя выводил он. Это — хорошо, значит, завтра собаку поведёт Жопанна. Она всё делает медленно. Даже мороженое покупает так, что от скуки сдохнуть можно. Выгребает из сумочки всю мелочь и по нескольку раз пересчитывает её. Бумажные деньги давать не любит. Он в такие моменты повторяет стандартную шутку, типа Жанна снова разбила свою копилку. (Ха-ха, как смешно!) Так что, пока она будет тупить в кондитерской, у меня появится дополнительное время. По идее, трёх минут хватит, чтобы подобраться, дать Клопселю конфету, затолкать его в мешок и свалить.
Попутно возникла идея нацепить ошейник на игрушечную собаку. Представляю себе лицо Жопанны. Она такая выходит с кондитерской, типа, Клопсель, зая, гоу хоум, а вместо заи на поводке сидит плюшевое хуй пойми что. Круассаны с кофе сразу нафиг не нужны, сразу — паника и волосы на жопе рвать: -))) Сцуко! Я б на это посмотрел! Потом она, конечно, догадается и начнёт терпилить. Но мне по фиг. Доказать всё равно ничего не смогут. А если по-правде, я даже хочу, чтобы он и Жопанна догадались. Всё равно я решил больше не общаться и не звонить. Надоело. Как будто я бедный родственник из Хуева-Кукуева. Поэтому по-любому проверну эту тему. К тому же, пока Жопанна будет у кондитерской дупли складывать, я успею добежать до Тадж-Махала. Это совсем рядом, но напрямую нельзя — в аллейке по утрам немеряно собачников. Поэтому придётся переться в обход, через парк, прямо по кустам. Грязи там по колено плюс Клопсель тяжёлый и стопудово будет брыкаться, но лёгкой жизни никто не обещал: -)))
С Тадж-Махалом я чуть не обломался. Помню, раньше в нём был музей, водили на экскурсии, а потом перестали и всё закрыли. Думал, он так и стоит пустой, но, оказывается, его превратили в сортир. Туда отдыхающие ходят, потому что туалетов в парке нету. По итогу внутри, как богатый дом — красивые комнаты и картины на потолках. Но везде по паркету кучи говна и сильно воняет. Люди — козлы. Им в прикол всё обосрать.
Короче, не захотел я оставлять там Клопселя. С одной стороны, пофиг, он — собака. А, с другой, не пофиг. Клопсель хоть и шароёбсель, но прикольный. Мне бы, например, не понравилось, если б я очутился связанным в грязном ссаном углу. Плюс всё ветхое, скрипит и шатается. В любой момент может рухнуть. Не представляю, как народ не боится здесь гадить. Я б не рискнул, даже если б припёрло. И вообще не понимаю, как это можно в таком месте? Неужели не стрёмно взять и посреди гостиной навалить?
Хотел в башенку подняться. Подумал, что наверху будет почище. Но ступеньки так трещали под моим весом, что я решил, ну его на хер, сейчас что-нибудь сломается, и я полечу прямо в говнище. Помещик Махалов, по ходу, в гробу бы перевернулся, если б увидел, во что его усадьбу превратили. Памятник архитектуры, блеать. Под охраной государства, блеать. Если б мою память так охраняли, я бы поубивал всех. Словом, не вариант. Не дай бог Клопселя придавит, не смогу себе простить.
Решил поискать ещё. Обошёл особняк. С другой его стороны увидел козырёк, а под ним лесенку. Спуск в подвал. Дверь обита железом. Подумал, что на замке, но на всякий случай подёргал сильнее. Выяснилось, просто тугая пружина. Внутри говном почему-то не воняет. Скорее всего, сюда давно никто не заходил, потому что со стороны парка не видно и, наверное, думали, что закрыто или заколочено.
Сам по себе подвал — большой. Сводчатые потолки, как в подземелье из Диабло-2. Света совсем мало, только из цокольных окошек над головой. Пока ходил, постоянно боялся наступить на какой-нибудь люк. Вдруг крышка на нём плохо держится, и я провалюсь вниз, а там — вода из канализации и всякая гадость. В общем, ссыкотно, но осмотреться было нужно. Восемь помещений и три поворота. Точнее, четыре. Заблудиться сложно. Стены такие, что хоть от зомби-апокалипсиса прячься. Даже если всё здание ебанёцца, то подвал не пострадает. В принципе, безопасно. Если Клопселя отнести в дальнее помещение, он потом без посторонней помощи наружу выберется вообще без проблем. И дорогу до дому тоже найдёт. Но только когда мешок прогрызёт: -))) Думаю, на всё про всё ему понадобится часа три. А к этому времени московский поезд будет уже тю-тю. А следующий только через сутки. А выставка — что? А выставка — сосите ноги, потому что кое-кто на неё не успеет: -)))
На выходе из подвала вспомнил, что дома есть фонарик. Надо завтра его не забыть, чтоб по темноте тут не шариться. И ещё нужно что-то придумать с пружиной. Она очень тугая, у Клопселя не хватит сил открыть дверь. Но можно подпереть её булыжником, чтобы она не захлопывалась. А можно не заморачиваться и просто привязать её за ручку к перилам.
Дочитывать я не стал. Закрыл тетрадь и отправился в кладовку.
Впрочем, «отправился» — это громко сказано. В двухкомнатной квартире даже если кладовка находится на другом её конце, это от силы дюжина шагов. И вот я их проделал и с приличествующим случаю благоговением распахнул дверцы стенного шкафа, сокровищницы Макса, его кунсткамеры, музеума, хранилища диковин — этого средоточия бесценных древностей, в коем мой наивозлюбленнейший собрал редчайшие свидетельства своего жизненного пути, исчерпывающую доказательную базу собственных деяний — как благих, возвеличивающих его имя, так и постыдных, я б даже сказал, откровенно преступных, вызывающих негодование, повергающих в шок, поражающих своей бесчеловечностью! (Шутка.) Я искал фонарик. С леской всё уже было понятно — ею Макс зафиксировал дверь в открытом положении, чтобы собака могла беспрепятственно выбраться из подвала. Конечно, не самое очевидное применение рыболовной снасти, но почему нет? Однако насчёт фонарика я мог бы догадаться и раньше, потому что, отправляясь на тёмное дело, стоило бы чем-то подсветить. (Лол!)
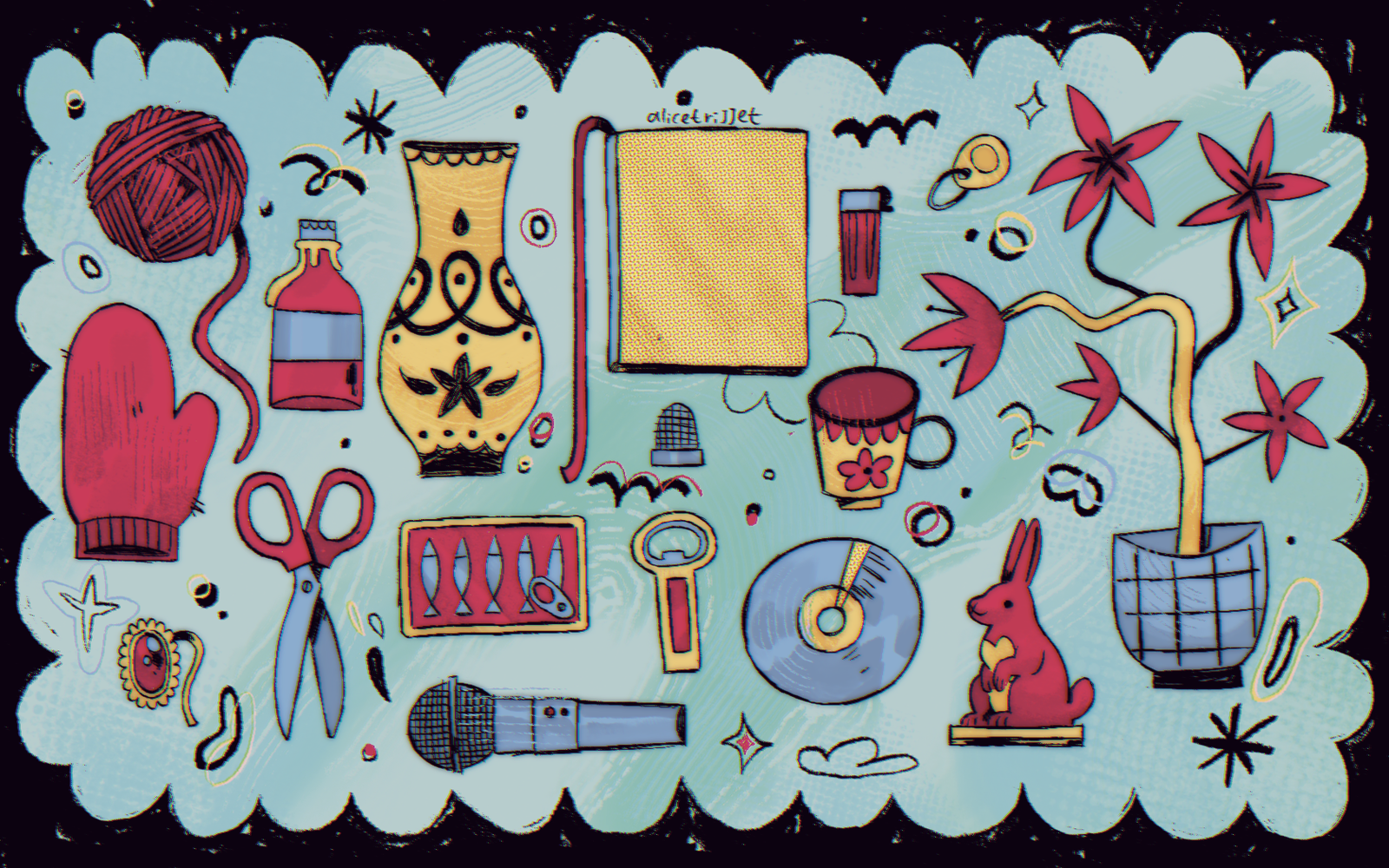
Фонарик был на самом видном месте. Китайский, светодиодный. Я его включил. Всё работает. Но почему я так уверен, что это именно он — тот самый четвёртый предмет, который завершал историю и свидетельствовал о спасении собаки? Плюшевый шпиц — раз. Мешок — два. Леска — три. Четыре — фонарик, найденный возмутительно быстро, найденный с такой лёгкостью, будто его не теряли. Поэтому…
…пять — я иду искать:
зажигалка, наконечник,
удочка, стакан, подсвечник,
катафоты, тормоза,
бронзовый орёл, коза
из плюша,
старая для бокса груша,
разводной ключ, шишка, грелка,
медальон, вазон, тарелка,
чашки, блюдца, талисман,
мышь, винчестер, чемодан,
гильза, градусник, лимонка
(пусть-ка полежит в сторонке),
мейд-ин-чайновский фонарь,
медный с позолотой ларь,
птичий череп, в банке кости,
набалдашники для трости,
в целлофане куркума,
одеяла, Кострома…
Точно! Моя mon amour! Ещё одно провинциальное поселение на букву «К», состоящее в основном из хрущёвок, трухлявых деревяшек и церковного архитектурного старья, которое позволило включить этот городишко в так называемое Золотое кольцо. Но смотреть там решительно нечего, а ехать — незачем. Я бывал в нём по делам, но впечатлился исключительно памятником собаке на Сусанинской площади да и то из жалости к костромичам, которые не нашли ничего более оригинального, чем вписаться во всеобщий тренд по созданию объектов городской скульптуры в честь бродячих животных. Судя по всему, на Макса изваяние тоже произвело впечатление (гораздо большее, нежели всё остальное), поэтому он и выбрал в качестве сувенира бронзовую копию этого памятника, которую все эти годы хранил, а при переезде на новое место засунул в старый баул и забыл об этом. Именно там — между комплектом постельного белья и шерстяными свитерами — я и наткнулся на неё.
На основании вышеизложенного
ПРОШУ:
По факту халатного обращения с чужими реликвиями меня оправдать.
Инсинуации Макса на эту тему считать безосновательными.
Признать за мной право на реабилитацию и компенсацию.
Дата, подпись.
* * *
— Алекс, я не могу тебя впустить.
— Йозик, я просочусь тенью…
— Да хоть невзрачной ветошью!
— Я всё-таки решил принять твоё предложение.
— Какое? Поесть солянки?
— Нет, устроиться в больницу медицинским инвентарём. Согласен на должность капельницы.
— Слушай, чо ты доебался до своего парня? Он лежит в больнице, а не на тротуаре. Ему сейчас покой нужен, а ты его теребишь постоянно. У нас карантин, повторяю тебе в сотый раз…
— Хорошо, тогда можешь ему передать кое-что?
— Могу, только если это не наркота и не литература экстремистского содержания… И не домашний сыр непонятного изготовления с непонятными сроками хранения.
— Нет. Это небольшая бронзовая статуэтка собаки на подставке. Вот, можешь убедиться, всё безопасно.
— Ты хотя бы её продезинфицировал?
— Я её облизал.
— Покрыл своими ядовитыми выделениями? Понятно. Дай-ка взглянуть. Зачем она Максу?
— Для восстановления исторической справедливости.
— Whatta fuck?
— Макс купил её себе на память. Это значит, что его экскурсия по городам Золотого кольца всё-таки состоялась, деньги на оплату этой экскурсии нашлись, поэтому план похищения Клопселя реализован не был — все остались живы, здоровы и счастливы.
— Кто такой Клопсель?
— Забей. Просто считай эту статуэтку фамильной ценностью, символом хэппи-энда личной подростковой драмы, случившейся в 2005 году.
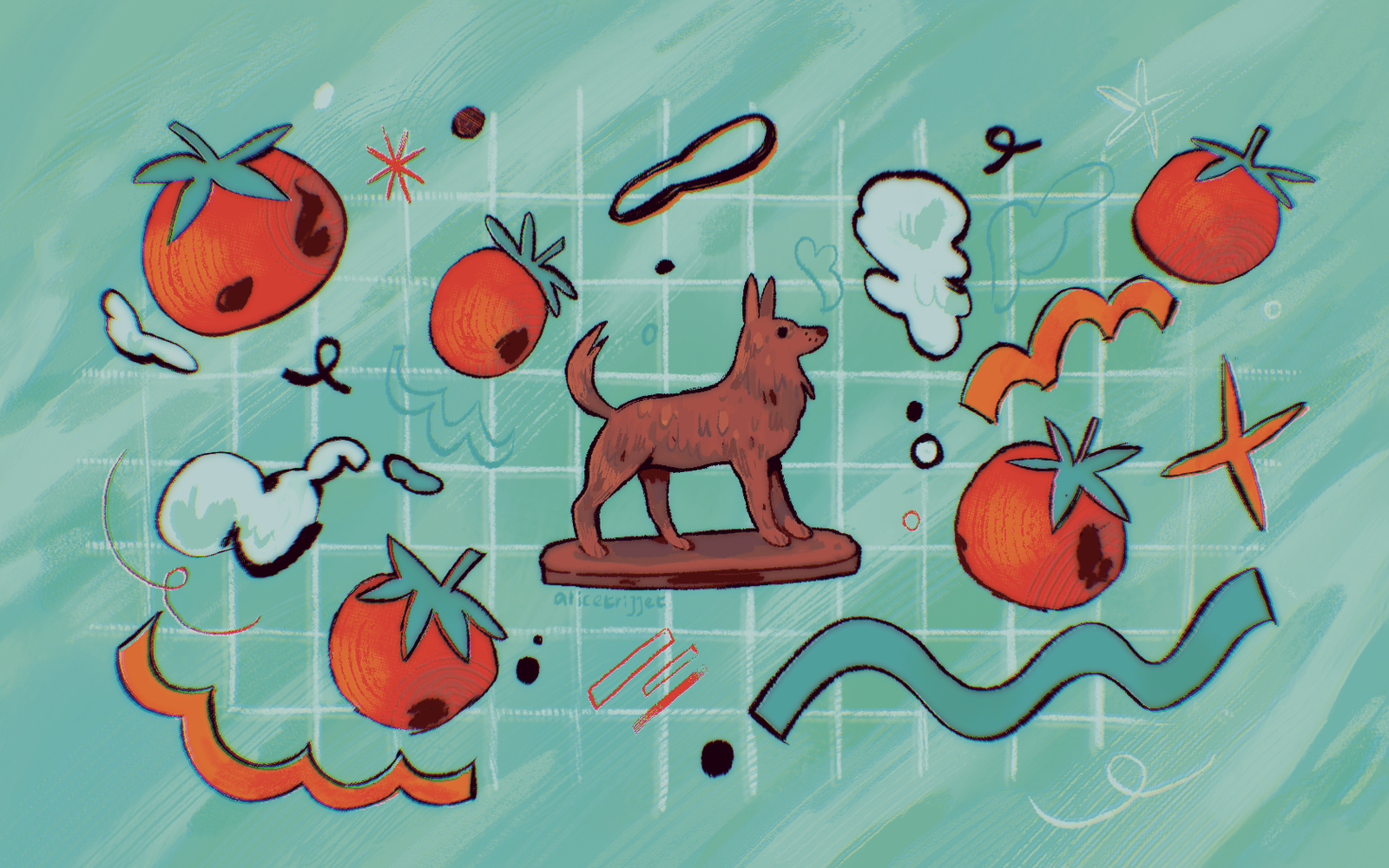
Йозик повертел статуэтку в руках, прищурился, потом отреагировал:
— В две тысячи девятом…
— То есть? — не понял я.
— Году… Вот здесь написано…
На подставке, с обратной её стороны, которую я даже не удосужился осмотреть, сохранился наклеенный ценник с аннотацией: «Памятник собаке. Изготовлен по детским рисункам молодыми архитекторами г. Костромы. Установлен на Сусанинской площади в 2009 году».
Блядь! Опять мимо!
* * *
— А я знаю?!
Если б за нами сейчас наблюдали, то решили бы, что Йозик возмущается. Но Йозик всего лишь разливал водку:
— Вот и я тебя спрашиваю! У меня диплом терапевта, а не психиатра. Что ты вообще ко мне пристал? Давай выпьем.
Выпили.
— По идее, я должен снять всю симптоматику и выписать Макса, а дальше делайте, что хотите. Могу назначить в качестве профилактического лечения аскорбинку — ему. А тебе — пиздюлей.
— За что?
— Ты мне зубы не заговаривай, я уже вторую налил.
— Я ещё первую не осилил.
— Не смей перечить кандидату медицинских наук.
— Ты не ответил на вопрос.
— А ты не выпил.
Ок, выпил.
— А тебе за то, — продолжил Йозик, наливая третью, — что парня своего не бережёшь.
А-фи-геть!
— Ты ведь ничего не знаешь, — сказал я.
— Закусывай, — ответил Йозик. — Здесь такая солянка, что, когда я буду умирать, потребую к смертному одру порцию, а лучше две.
Я подозвал официанта:
— Принесите ему, пожалуйста, целую кастрюлю.
— Не слушайте этого гигантомана, — сказал Йозик, облизывая ложку. — Понимаешь, Алекс, у твоего Макса какой-то синдром неполноценности. Но не в клиническом смысле, а я даже не знаю, в каком. Он говорит, что распадается на атомы. Это — бред. Мне стоило бы вызвать психиатричку и сбыть с рук такого пациента от греха подальше. Но я держу его в интенсивной терапии, потому что… Словом, потому что.
— Прекрасное объяснение! — кивнул я. — Очень доходчивое.
Йозик проигнорировал.
— Вы обратили внимание, что графин уже пустой? — спросил он официанта.
— Ещё триста? — предложил тот.
— Если вы такой догадливый, то почему стоите, как вкопанный? — поторопил Йозик. — Вы нас подслушиваете?
Официант ушёл. Йозик снял очки:
— Я тебе даже больше скажу: не нужен вам никакой психиатр. Зацикленность Макса на воспоминаниях — это просто желание на что-то опереться.
— Он может опереться на меня.
— Не может. Обесценивая то, что ему дорого, ты лишаешь его опоры. Тебя наизнанку выворачивает его привязанность к собственному прошлому.
— Не выворачивает, а веселит.
— Зная тебя, не вижу разницы. Это просто формы одного и того же — неприятия, которое вызвано личным опытом. Ты предпочитаешь делать вид, что у тебя прошлого нет, да и вообще это такая ненужная штука — что-то типа атавизма. Но Макс считает иначе, поэтому и делает из своего прошлого музейную экспозицию.
— Музейная экспозиция Макса — это патология.
— Его патология не патологичнее твоей. Вы оба в равной степени зациклены на прошлом и не можете воспринимать себя вне его контекста. И это — нормально, все так живут.
— Я — нет.
— Сколько ты зарабатываешь?
— За тот год получилось наскрести на новую квартиру и ещё кое-что осталось.
— Ма-ла-дец! Просто красаучик! Плечи, ряха… — Йозик показал руками. — С хорошим образованием, при должности, бабле, хате и машине… Не будь у меня жены с двумя детями, я б не задумываясь!!!
Я состроил лицо.
— Шучу я, — уточнил Йозик. — Не обижайся. Но помни, что всему вот этому, — он снова показал руками, но теперь жест был гораздо шире, — ты обязан своему прошлому.
— Всего вот этого, — пришлось повторить жест Йозика, — я добился не благодаря, а вопреки…
— Применительно к данному случаю это одно и то же. Ты с рождения был помещён в среду, которая создавала нужную мотивацию. Этой мотивацией ты руководствуешься до сих пор и достигаешь успеха. Но почему-то делаешь вид, будто стартовые обстоятельства отсутствовали. Зачем-то стыдишься детства, проведённого в глухой провинции, дурацкой школы, идиотов-учителей, дебилов-одноклассников, этих беззубых унижений — совсем не страшных, а, скорее, карикатурных… Тебя, в отличие от меня, головой в унитаз не окунали… И в школьной столовке тебе в кашу не плевали… Посмотри на себя в зеркало — ты вымахал в здорового бугая, но до сих пор боишься, бежишь, прячешься. Прячешься даже от побитого жизнью Волотова, хотя а чо такова?
— Йозик, алкоголь — не твоё. Слишком быстро напиваешься.
— Ух, как тебя задело-то! — обрадовался Йозик. — Больненько вдруг стало?
— Фигольненько… У меня высокий болевой порог. Я с некоторых пор ничего не ощущаю.
— Это прям феерически смешно, — сказал Йозик и крикнул официанту: — Милейший! Куда вы пропали с нашей водкой? — а потом снова обратился ко мне, почти перейдя на шёпот, и это звучало то ли доверительно, то ли издевательски: — Кстати, Волотов завтра на сутках.
— И что? — спросил я. — Ваще насрать! Не родился ещё тот, от кого я буду бегать и прятаться.
— Ты ж моя лапочка! — Йозик и вправду пьянел на глазах. — Ты переехал в другой город, то есть поменял место жительства. Раскачался до состояния кабана, то есть изменил внешность. Сменил имя и фамилию… Обрезал старые связи… Родителей хоть навещаешь?
— Регулярно высылаю деньги.
— И после этого ты говоришь, что не зациклен на прошлом? А постоянное бегство от него — это не зацикленность?
— Ты ведь тоже сбежал, уехал из Крестова…
— Прикинь, уехал! Но остался Йозиком. Мне тоже 35, я при бабле и хорошей должности, но подчинённые так и зовут меня — Йозик. Иногда даже забывают добавлять «Евгеньевич», но мне плевать… Мало того, я принял на работу Волотова…
— Заебал ты своим Волотовым.
— Я тя умоляю! Ну было между вами…
— Йозик!
— Так оно ведь никуда уже не денется, это часть тебя…
— Евгеньевич!
— Артурчик, милый мой, я просто хочу отпустить очередную банальность: прошлое с тобой навсегда. Сбежать не получится. Вопрос только в том, а что дальше?
— А дальше — ничего. И зовут меня Алексом. И намерения мстить Волотову у меня нет. Нет даже желания его унизить.
— Что за манера всё опошлять? У меня тоже не было желания его унизить. Я просто хотел помочь: человек побарагозил, потом хапнул положенного и в итоге сделал для себя какие-то выводы. Кроме того, Волотов — это ходячий символ, живая напоминалка. Несколько лет назад он в буквальном смысле макал меня головой в унитаз, а теперь почитает, как своего благодетеля. А как всё обернётся в будущем? Может, мы поменяемся ролями. Жизнь ведь штука переменчивая — она ползёт, как змея в траве, пока мы водим хоровод у фонтана… Чего примолк?
— Пытаюсь вспомнить, откуда цитата.
— Не ври мне. Не пытаешься, а думаешь, как побыстрее слинять от этого разговора. Не пущу никуда. Будешь со мной солянку есть и водку пить.
— Спасибо, но мне пора домой.
— С чего бы это?
— Не до водки сейчас. Все планы по пизде пошли, Макс в реанимации…
— В интенсивной терапии.
— Да какая разница?
— Небольшая, но существенная.
И тут я взорвался:
— Блядь! Йозик! Ты такую хуйню несёшь! Какие символы? Какие напоминалки? Ради какой великой цели холить и лелеять все эти огрызки прошлого? Что это принципиально изменит? Жизнь от этого лучше станет? Да ни хрена подобного! Вон, полстраны мудаков сидят в своём прошлом, как в выгребной яме, ничего, кроме этого говна, вокруг себя не видят… Мумию несчастную из мавзолея вынести не могут, пыль с неё сдувают… и что — охуенно живут?!
— Далась тебе эта мумия… Пусть она лежит в мавзолее, кому это мешает? Проблема ведь не в том, что полстраны мудаков пыль с неё сдувают, а в том, что они выводов никаких не делают.
* * *
Домой я вернулся на рогах. Бухенькой-с. В шапито-с. Это всё Йозик виноват. Жидо-иллюминатская алкопьянь…
А я — не такая. Я — девушка приличная. Не пью, матом не ругаюсь, в жопу не ебусь…
Ну да! Ебусь! И чо? А ещё хабалить умею. Потусите с моё — и не тому научитесь. Макс вообще сказал, кокой ужос нах, когда я сводил его в «Присциллу». Но он сам этого хотел. А я чо? Раз публика просит, устроил ему показательное выступление. Один раз можно. Наебенился в сопели и жёг под «Нас не догонят». Являл свою пидорскую сущность. Макс охуел: «А как же джаз? А как же спорт? ЗОЖ? Карьера?» А вот так же, блядь! Детство у меня было тяжёлое, блядь! Когда сюда из Крестова переехал, крышку снесло сразу же. Думал, меня от радости порвёт. Жрал свободу ложками, первое время нажраться не мог. Пока заканчивал школу, ещё держался, а после поступления в универ — понеслась пизда по кочкам! Днём — лекции, вечером — работа, ночью — движ. Когда спал — не знаю. Мне кажется, я вообще не спал. Как не сторчался — большая загадка. В одной конторе меня до сих пор помнят, как конченную накокаиненную суку. Я разводил клиентов так, что даже начальство подтраивало от моей наглости, но терпело. А зря! Потому что в итоге я шваркнул всю компанию, а они только стояли и слюну сглатывали, глядя, как мимо них в мой карман уплывает почти миллион. А ибо не хуй!
И да, мне ни разу не стыдно, потому что половину этих денег я отправил предкам, типа, вот вам на ремонт квартиры. Это была моя месть папаше — Вячеславу-мать-его-Михайловичу, шоб он был здоров. Все пять лет, пока я учился, он надо мной измывался. По его представлениям существовало только три достойные профессии: инженер, электрик и инженер-электрик. Все остальные — менеджеры, то есть, не люди. А финансовые аналитики — это вообще зло. Это те, кто за финансы в жопу дают, потому что аналитик — не от слова «анализ», а от слова «анал»… точнее, «онал» — так папаше казалось смешнее: «ональное отверстие оналитика».
Поэтому я и совершил этот жест невъебенной щедрости, чтоб папаша утёрся. Признаться, я ожидал его вопроса, каким «отверстием» я эти бабки заработал. Я даже заготовил ответ, но Вячеслав ибн Михайлович всё понял. Впервые в жизни он промолчал, только отбил эсэмэску: «Спасибо, сынок».
Вот так, всего за каких-то пятьсот косарей я снова стал его сыном, а не оналитиком и не педерастом… точнее, п'едерастом, потому что для усиления комическаго эффекту Вячеслав-ака Михайлович в устной речи сорил апострофами, а иногда даже составлял окказионализмы: гомогей, п'едосексуал, п’оппенгагенец, оналомученник и (далее проявились все его познания в английском) вротер.
Пить хочу…
Когда прибухну, сушняк догоняет. И терзает мои иссыхающие члены до тех пор, покамест живительная влага не заструится по стенкам пищевода вглубь моевонаго организьма…
Вот нахуя я так нарезался?
Надо заканчивать этот беспредел…
Этот беспердел…
Завтра — в зальчик. Жать, тянуть и приседать. И не ебёт!
Вот зуб даю!
Вот блёй буду, как сказал бы мой папаша. Все вокруг говорили «бля», но Вячеслав фон Михайлович — этот эстетизирующий глубинарий земли крестовской — предпочитал выражовываться «с особым изяществом». То есть с подъебцом.
Хах! Вы ещё не знаете, что он отчебучил, когда вся история вылезла наружу.
Когда вся история вылезла наружу, он сказал: «С тобой теперь даже срать на одной поляне стрёмно. За стол с нами больше не садись. Питаться будешь в своей комнате из отдельной посуды».
А мама голосила: «Ой, что же делать, что же делать, что же делать…»
А папаша увещевал: «Не ори оглашенная, а то соседи услышат».
А мама причитала: «Надо к батюшке, к батюшке, к батюшке…»
А папаша угорал: «Это молитвами не лечится, не лечится, не лечится…»
А мама: «Отче, Сыне и Святый Душе, в нераздельней Троице поклоняемый и славимый…»
А папаша: «Окстись, у поциента крайняя стадия, отягощённая симптомами хуесосательства и вжопуебательства…»
А мама: «Призри благоутробно на раба Твоего Артурия, болезнию одержимаго…»
А папаша (почти в рифму): «Болезнь педерастия неизлечимая. Пущай раб Артурий собирает манатки и пиздует на все четыре стороны — хоть в Гану, хоть в Ботсвану», — и пел на манер «Господу помолимся», откровенно глумясь: «Ви донт нид ноу эдьюкейшн, ви донт нид ноу сот контрол…» А позже, когда мать подугомонилась и, роняя слёзы, подшинковывала капусту, запилил заточку ко мне в комнату и сказал: «Беги, парень, беги. Ю бетта ран ол дэй энд ран ол найт!» Он спецом кочевряжился, чтобы сделать мне ещё хуёвее, и у него это получалось, потому что хотелось взять подушку и удушить ею самого себя. Или хотя бы проораться в неё.

Но боль — такая штука, у которой есть порог. Перешагнул его — и становится настолько невмоготу, что дальше ничего не чувствуешь. Надо только дотерпеть, а потом гасите об меня окурки, загоняйте под ногти иглы — всё по херу, ничего не страшно. Так что отдаю должное своему папаше за привитые мне навыки.
И, кстати, своим «ран лайк хелл» он не выгонял меня из дому, а спасал — я это понял только пятнадцать лет спустя. Изуверствуя, он вызволял меня из этой дыры под названием Крестов, из этого обиталища еретиков, лжеучителей и псевдологов. Вячеслав свет-Михайлович как никто другой понимал, что это за место. Но поблагодарить за оказанную услугу я не успел. Инсульт доконал моего старикана раньше, чем я образумился.
А вообще хватит на сегодня соплей! Мне ещё с Максом разбираться. Он, сучонок, целый квест мне оставил, который я никак не могу решить… Да вы всё помните! Только я не помню, куда его дневник подевал. Надо дочитать эту душераздирающую историю про похищенную собаченцию и узнать наконец, что за четвёртый предмет имеется в виду — закрыть этот ёбанный гештальт.
Макс! Если ты меня сейчас слышишь, конечно… Вместо того, чтобы предвкушать прогулки по Праге, я вынужден заниматься разгадыванием твоих дурацких загадок и поисками каких-то мифических крестражей, которыми ты засрал свою жизнь. Буду звать тебя Герпием Злостным. Вот куда я засунул твои мемуары? В задницу? Ответ не верный! Похоже, ещё дальше. На столе их нет. На полках — нет. На диване — тоже…
В спальне?
Точно! В спальне под кроватью!
А почему под кроватью?
А я ебу, почему под кроватью? Просто — под кроватью. Лежат там и молчат. По ходу, скрывают что-то. Щас мы всё выясним…
Вот, пожалуйста, среда 27.04.2005: «Сегодня попросил у него денег на экскурсию. Наши собираются…»
Четверг 28.04.2005: «Мама подтвердила, что денег до 10-го не будет, придётся брать в долг…»
Пятница 29.04.2005: «Хотел встать аж на час раньше, но чуть не проспал…»
На следующей странице: «Решил нацепить ошейник на игрушечную собаку… Не дай бог Клопселя придавит… На выходе из подвала вспомнил про фонарик…»
Следующая страница… А следующая страница — чистая. Белый, не тронутый лист. Девственный. Непорочный.
27-е апреля есть.
28-е — на месте.
29-е — тоже.
А 30-го — нет. Макс не оставил никаких записей. Попросту не захотел фиксировать события целого дня. Будто отказался давать показания. Будто воспользовался своим правом не свидетельствовать против себя. Что ж там такого произошло — 30-го апреля 2005-го года? И зачем мне это надо знать? И какое мне до всего этого дело? Завтра — тяжёлый день, вставать рано, я в кашу бухой, с какой башкой проснусь — не знаю, в каком виде явлюсь на работу — не знаю, как проведу совещание — не знаю… Да пошёл ты на хер, дорогой Макс!
Закрывает дневник и с силой швыряет его. Дневник пролетает через всю комнату, ударяется об стену и падает. Занавес.
И в качестве эпилога:
— Мне здесь не нравится, — сказал Макс.
— Ой, а что случилось? — спросил я. — Это самый известный антикварный магазин в Праге.
— Лучше б мы выпили пива.
— А как же подарки? Ты не хочешь выбрать себе сувенир на память?
— Я бы предпочёл наушники. Мои накрылись, левый канал не работает.
— Не вопрос! Вот прекрасные экземпляры компании Electrophone. Немного громоздкие, но для 1896 года — абсолютно революционное решение.
— Тебе жалко что ли?
— Эти «электрофоны» стоят, как приличные магнепланары!
— Я имею в виду, тебе жалко купить мне новые наушники?
— Вовсе нет. Но мы могли бы приобрести что-то винтажное, тёплое, ламповое…
— Ненавижу тёплое ламповое.
— А холодное механическое? Например, граммофон. Есть настоящий Pathe 1907 года. Долгими зимними вечерами, облачившись в бархатные халаты, сидя напротив камина, вытянув к нему ноги, мы бы слушали:
И, сладко замирая
От криков попугая,
Как дикая магнолия в цвету,
Вы плачете, Иветта,
Взведя курок беретты…
— Алекс, ты опять издеваешься?
— Да. И я опять хочу секса. Прямо здесь, в окружении этих милых ископаемых эпохи рококо и модерна. На фоне граммофона. С трубой в руке. И с канделябром — тоже в руке.
— Я сейчас начну кусаться.
— Алекс! Вы всё ещё с нами?
— Прошу прощения, коллеги. Обдумывал ответ.
2
— Прошу прощения, коллеги. Обдумывал ответ.
К совещанию на похмельную голову добавились ежеквартальные отчёты, ради которых пришлось задержаться в офисе на два часа дольше обычного. К вечеру мозг из квадратного стал тетраэдральным. Хотелось уползти домой, дабы отлежаться на диванчике, а не вот это вот всё. Но, когда наконец удалось вырваться от шефа, меня уже караулили пять пропущенных от Йозика и одно sms, больше похожее на телеграмму: «Не дозвонился улетаю конференцию. Тебя ждут больнице. На проходной спросить завотделения Гейзерову Паню Павеловну. Чем скорее тем лучше».
Как вовремя!
«Целую нежно в лоб», — с ненавистью сказал я коммерческому (ему тоже вдруг понадобилось срочное) и выехал с парковки, заранее предполагая, какие пробки ждут меня в двух кварталах отсюда, и они меня таки ждали, потому что из столицы прибыли ихние амператорские величия и центр стоял намертво. Пока я соображал, как быть дальше, меня успели запереть и сзади, и слева, а спереди вообще творилось беспросветное, и тротуар справа такой, что не объехать — разве что облететь, но я столько не зарабатываю.
19.17. Быстро добраться до больницы — без шансов; выяснить, что там стряслось с Максом — тоже, потому что Йозик в самолёте, самолёт в небе, отследить можно, дозвониться — нельзя.
Я включил аварийку и вышел из машины. Меня заинтересовала ближайшая подворотня: быть может, она сквозная — чем чёрт ни шутит? — и пересёк арку.
Двор. За ним — следующий. Дальше — ещё один. Подворотня действительно была сквозной, но выезд из неё на соседнюю улицу закрывали ворота, а ключ от них поди найди…
— Переезжаете в Антарктиду?
Я обернулся.
— Моё обещание VIP-скидки ещё в силе, — это была та самая девица из конторы с безалаберными грузчиками и это был тот самый двор, который я опознал не сразу, потому что вошёл в него с другой стороны.
— Кажется, вы меня не вспомнили, — сказала девица.
— Курение убивает. И ещё здесь не было этих ворот, — сказал я.
— Только не рассказывайте моей бабушке. Она тоже ругается, — девица затушила сигарету. — И ворота здесь были всегда, но раньше мы держали их открытыми, поэтому в прошлый раз вы просто не обратили внимания.
— У вас дивная организация. Настоящее бюро по доставке — но только не грузов, а проблем.
— Например?
— Несколько дней назад — коробка, — напомнил я. — А сегодня — ворота. Если они всегда стояли открытыми, то почему именно теперь возникла идея их закрыть? Каждое взаимодействие с вашей конторой ломает мои планы. Вы это специально? Мне нужно проехать, я спешу, уже должен быть на другом конце города.
— Ворота я вам открою, а тех грузчиков мы всё-таки казнили.
— У меня нет ни времени, ни желания шутить в ответ.
— Жаль. Хотела вас рассмешить, но вы какой-то бесчувственный.
— Вы сильно ошибаетесь, если считаете, что необходимость вытаскивать отсюда ту злосчастную коробку на собственном горбу — самая большая сложность, с которой я столкнулся по вине ваших грузчиков. Банальной казни недостаточно.
— Мы их предварительно пытали. Они плакали.
— Из-за них я потерял один предмет, вещь редкую цены немалой, единственную отраду близкого мне человека, его прелесть, чуть ли не смысл всей его жизни, а вы говорите, плакали…
— Тогда вам полагается компенсация.
— Вы меня пугаете. Просто дайте возможность проехать.
— Не хочу, — ответила она и ушла. У меня отвисла челюсть.
— Я имела в виду, не хочу отпускать вас без подарка, — уточнила девица, вернувшись через минуту. — Вот, держите, — и вручила мне медаль… значок в виде медальки.
— Что это?
— Ваше, по всей видимости. Выпало из коробки, когда та разбилась, а вы не заметили. А я — заметила. Через окно. Но выходить не захотела. Во-первых, вы сами отказались от помощи, а, во-вторых, были очень злы — гораздо злее, чем сейчас.
— Почему не сказали об этом сразу? Ведь видели, что я ползаю по двору, собирая все эти побрякушки, и молчали…
— Потому что см. выше. Скажите спасибо, что я не поленилась после вашего ухода подобрать и сохранить.
— А идеи позвонить мне у вас не возникло?
— Возникло. Но я просто забыла.
— Надеюсь, вы не забыли захватить с собой ключи от ворот?
— Ключи не нужны. Там кнопочка. Надо пальчиком. Показать?
В 19.27 я уже сидел в машине. В 19.30 выехал на соседнюю улицу. В обратную от центра сторону она была свободна и я бесцеремонно гнал, продвигаясь к объездной трассе. На торпеде позвякивал значок в виде медальки. На аверсе было выбито: «Городской департамент чрезвычайных ситуаций», на реверсе — «Ветрову Максиму. За участие в спасательных работах. 30 апреля 2005 года».
* * *
— Вы кто? Куда? К кому? По какому вопросу?
— Мне нужна Гейзер Панна Павловна.
— Паня Павеловна. Правильно будет: Гейзерова Паня Павеловна. И она вам не нужна.
— Она меня ждёт.
— Она никого не ждёт.
— Мне Йозик Евгеньевич прислал sms. Вот, пожалуйста… — я предъявил телефон к осмотру.
— У Пани Павеловны семнадцать минут назад закончился рабочий день.
— Но она ещё на месте?
— Нет, она уже не на месте и очень хочет домой.
— Паня Павеловна — это вы?
— Да, это я. Приходите завтра. Не загораживайте дорогу.
— Вы же просили, чтоб я срочно подъехал… Звонили Йозику Евгеньевичу… Он написал мне…
— Как фамилия?
— Моя?
— Зачем мне знать вашу, молодой человек?
— Пациента?
— Вы так долго соображаете, что я опоздаю на автобус.
— Я оплачу такси. Ветров.
— Это не даёт вам оснований задерживать меня сверхурочно.
— Фамилия пациента — Ветров.
— Скончался.
— Что, простите?
Тётка посмотрела на меня, как на идиота.
— Что, простите? — повторил я.
— У вас проблемы со слухом? — спросила она.
— Хватит! — рявкнул я. — Ветров нас всех переживёт. В какой он палате? Дайте мне пройти.
— Куда пройти? К кому пройти? Нет его там. Умер. Завтра вскрытие. Приходите после полудня.
После полудня? Серьёзно? Сейчас 20:17. Я пробирался через весь город по пробкам. Гнал, как мог. Дважды пришлось нарушить. Один раз чуть не вляпался на гайцов. На руках у меня медаль, практически орден за спасение Отечества — эта блестючая трёхкопеечная висюлька с дарственной надписью Максу, который самопожертвенно ринулся спасать Клопселя, голыми руками разгребая обломки старой усадьбы. Я теперь точно знал, чем закончилась эта глупая история. Я отгадал загадку. Отыскал кощееву иглу, добыл кольцо всевластья, вымутил цветик-семицветик и теперь готов вручить его моему страдальцу, но какая-то гнусная Гейзиха, толстая стерва перекрыла собой узкий проход и убеждает меня в том, что Макс умер. Старая ведьма, не охуела ли ты?!
— О, я, конечно же, всё понимаю, мадам! — сказал я вслух. — Вы устали. Дома ждёт голодный муж. Сварите ему сосисок, пусть подавится.
— Что? — взбухла мадам.
— Ничего. Вам послышалось. Целую ручки, пани Фонтанова.
— Ох, рано! — выдохнула мадам, а после превратилась в сущую сирену. — Охрана! Охрана! — заголосила она, наблюдая, как я перепрыгиваю турникет и направляюсь к лестнице, нагло попирая установленные здесь правила.
— Ох! Ра! На! — кричала мадам и в ответ на этот зов в освещённый холл из тёмного закутка вышагнула фигура — широкоплечая, узкобёдрая, вся в чёрном, и при иных обстоятельствах её облачение — вороная полувоенная форма — вызвало бы нестерпимое желание, потому что любая одежда смотрелась на Волотове великолепно, а это был несомненно он — Волотов, нанятый Йозиком охранник, призрак из моего прошлого. И я побежал.
Второй этаж.
Налево.
Фикус.
Распределительный щит.
Скамейка.
Дверь в туалет.
Кабинет физиолога.
Кабинет пульмонолога.
Кабинет рентгенолога… онкопроктолога… ревматравмолога… офтальмонголога.
«Часы приёма».
«Только по записи».
«Без вызова не…»
«Посторонним в…»
Ещё раз налево.
Стоп.
Дайте отдышаться.
Волотов отставал. Те двадцать лет, что мы не виделись, прибавили ему массы и убавили скорости. Я сосчитал до трёх и выставил из-за угла ногу. Волотов споткнулся, взмахнул руками, будто собираясь с мостков красиво войти в воду, но некрасиво плюхнулся на пол. Я тут же навалился сверху, зажал ему ладонью рот и шепнул на ухо: «Привет, Димон».
Волотов попытался вырваться.
— Ты меня не узнал? Прикинь, как в этом мире всё переменчиво! А я, между прочим, твоя потаённая страсть. Можно сказать, первая любовь. Ну же, милый…
Волотов замычал.
— Тише. Башку сверну. И не пытайся ломать мне палец — я к боли равнодушен.
Волотов замер.
— Знаешь, я даже рад тебя видеть. Ты всё такой же ходячий секс. С удовольствием подзадержался бы на твоей широкой спине, но имею неотложное дело и всячески рассчитываю на сотрудничество. Кивни, пожалуйста, если да.
Волотов замотал головой.
— Эх, жаль. Всё-таки стоило тогда тебя трахнуть. Мы ведь ни разу нормально не поебались. А ты этого хотел. Я знаю, что хотел. Я видел, что хотел. Ведь хотел? Ведь так? Сейчас прекрасная возможность наверстать упущенное. Не боишься? Нет? А вдруг у меня ВИЧ?
Волотов заёрзал.
— Да, ты прав. У меня есть повод для мести. На фига ты всем растрепал, что я тебе отсасывал? А ты мне не отсасывал? Ты вообще в курсе, что сохранились фотки?
Волотов затаился.
— Ага, значит, уже стало интереснее. Фоточки действительно сохранились. Их сделал Йозик, который, как выяснилось, за нами подглядывал. А когда ты так неосмотрительно себя повёл, он хотел их обнародовать, чтобы помочь мне, да я отговорил.
Волотов зашевелился.
— Нет, дружище, это не пиздёж. Как считаешь, почему Йозик взял тебя на работу? Ты его чморил, даже головой в унитаз макал, но он вдруг облагодетельствовал тебя — труса, предателя и уголовника. Думаешь, забыл и простил? Нет, ты херово знаешь Йозика. Он — умная, циничная и мстительная тварь. Ему доставляет наслаждение видеть, как ты теперь перед ним унижаешься. А ещё больше ему нравится идея однажды взять эти будоражащие фотки и развесить их, например, в этом коридоре. Выставить на всеобщее обозрение. А самые откровенные из них, то есть, наиболее похабные, он планирует отправить в Крестов…
Волотов заперхал.
— Думаешь, я блефую? А если нет? Прикинь, как рванут пуканы у подписчиков «Подслушано Крестов» и «Уездный город К». Провинциальная скука, разбавляемая лишь объявлениями о продаже детских санок, будет уничтожена снимками тебя, солирующего на головке моего пениса. Представляешь себе масштаб последствий? Могу рассказать, как это выглядело в моём случае. Отец отказывался садиться со мной за один стол, а мама на полном серьёзе хотела отправить в монастырь на излечение. Дядька говорил, что моё место в психушке, и я должен благодарить Бога за то, что не у параши. Его сынуля-десантник считал меня позорным пятном на фамилии, которое следует выжечь кислотой. По твоей милости, Димон, я превратился в прокажённого. Учителя испытывали ко мне брезгливую жалость, а одноклассники — омерзение. Хозяин соседнего магазина перестал пускать на порог, мол, «содомитов не обслуживаем». Даже незнакомые люди плевали мне вслед, потому что сплетни разносятся по Крестову быстрее федеральных новостей. Весь город стал для меня чеченским селением, если ты в состоянии понять, что я имею ввиду. Но самым убийственным было твоё безразличие. Я нуждался в поддержке — хотя бы в молчаливой, хотя бы в улыбке тайком, но ты сделал вид, будто меня не существует.
Волотов сник.
— Вот и супер! Теперь можем перейти ко второму раунду наших переговоров. Видишь ли, мой трепетный друг, в этой больнице лежит очень близкий мне человек. Возможно, ему сейчас плохо. Возможно, он умирает. Быть может, умер уже. Но меня к нему не пускают. Я мог бы сейчас сковать тебя наручниками, а в рот засунуть кляп, но я пытаюсь договориться по-человечески. Дай мне пятнадцать минут, а потом я уйду и ты больше никогда обо мне не услышишь. Обещаю быть паинькой. Ни одна бацилла не выпадет из моего рта на стерильные поверхности этого уважаемого медицинского учреждения.
Волотов кивнул.
— Это означает «да»?
Волотов вздохнул.
— Хорошо. Сейчас я отпущу тебя. Пожалуйста, без сюрпризов. У меня хватит сил скрутить тебя снова. Или придушить.
Я ослабил хватку. Волотов вёл себя спокойно. Повернувшись ко мне лицом, смотрел выжидающе.
— И тем не менее, Димон, зачем ты тогда всё растрепал? Нам ведь было охуенно вместе. Мы могли окончить школу, уехать из Крестова и жить где-нибудь, как люди… Что произошло? Чего ты испугался?
Волотов молчал.
— Ладно, можешь не извиняться. Это уже не имеет значения.
Волотов усмехнулся.
— Именно в эту наглую рожу я и влюбился тогда, — кивнул я и протянул ему руку, чтобы помочь встать.
Волотов поднялся и — о, Боже! — заговорил.
— Огорчуху не лови, — сказал он. — Вообще, я очень хотел повидаться…
— Димон, не сейчас. Где здесь отделение интенсивной терапии?
— На последнем этаже, прямо по коридору. Давай провожу…
— Нет, Димон, ничего у тебя не выйдет. Я сам дойду.
— Заглянешь на обратном пути?
— Я же сказал, ничего у тебя не выйдет. Я — замужем, а ты — в прошлом. Сорян, мужик.
Волотов кивнул и попытался обнять на прощание.
Он захотел меня обнять! Снизошёл таки. Двадцать лет назад только за одно намерение сделать это, я бы отдал полжизни, а теперь — что? Нет, дружище, на обнимашки я давно не ведусь.
* * *
Лестница, ах, лестница,
Славная кудесница!
Я по лестнице шагал,
Все ступеньки сосчитал.
Раз, два, три, четыре,
К отделению интенсивной терапии
На пятый этаж шагом шире!
Знаю, что не складно. Макса всегда коробило, когда я, валяя дурака, начинал переиначивать чужое.
— Даже не пытайся, — говорил он. — Звучит ужасно.
— Это доведённая до абсурда постмодернистская ирония. Её наивысшее, эталонное проявление. Фаза смены культурологической парадигмы. Практически предъидиотическое состояние.
— «Культурологической», «практически», «предъидиотическое»… Не до хуя ли?
— Прекрасный пример аллитерации.
— Меня бы в универе за такое подняли на смех. Но я тебя просто утоплю в ванной — так гуманнее.
— Ваннее.
— Отвали, зануда! — Макс хорошо понимал, почему мне нравится это делать.
Но этого никогда не понимал Димон Волотов.
— Чо базаришь так опасно? — спросил он (первый час ночи, возвращались с чужой днюхи и Димон провожал меня… точнее, страховал, пока шли через Силикатный — самый неспокойный район Крестова).
— Базаришь опасно, — сказал Димон.
— В смысле?
— Пацаны за тебя интересовались.
— По какому поводу?
— Ты в курсе, по какому…
— В душе не ебу. С тем белобрысым штрихом мы просто зацепились языками. Я прям удивлён, что в Крестове помимо меня кто-то ещё смотрит Фасбиндера.
— По хуй, кто что смотрит.
— Тогда в чём проблема? Мы разговаривали о фильмах. О кинематографической продукции. О зафиксированной на плёнке последовательности художественных образов.
— Каких, в пизду, образов? Не отдупляешь, про что можно говорить, а про что — нельзя?
— Про фильмы — нельзя?
— На хуй ты дурака врубаешь?
— Димон, эти твои «пацаны» — долбоёбы. Услышали обрывки разговора, ни хера не поняли и радостно побежали на меня лить. Я даже догадываюсь, на какое именно слово они возбудились. Сказать?
— Нет.
— Да не ссы, никто не услышит.
— Не надо.
— То есть, материться при бабах — норм, а это слово прям такое страшное, что его вслух произносить нельзя?
— Всё, завязывай.
— Димон, я тебя за язык не тянул — ты сам начал.
— Да, начал. Потому что ты разводишь стрёмные темы, а пацаны потом выдыхают мне такую хуйню, что я не знаю, как съехать.
— Никак. Тупо игнорить. Они же дебилы! Я не смогу им объяснить, кто такой Фасбиндер и почему он снимал такое кино. Им не нужно. Забей.
— Как забить, если они это выдыхают мне — мне, а не тебе! Ты сам палишься и заодно меня подставляешь. Все видят, что мы трёмся вместе. Нам даже погремуху повесили одну на двоих…
— Я в курсе за погремуху. «Твиксы». Мне нравится.
— Хуявится! Стопудово уже допёрли…
— Допёрли — до чего?
— До того! Надо прекращать всю эту пидерсию, а то в жир ногами въеду.
— Димон, у нас с тобой только один выход — валить из Крестова, иначе так будет всегда.
— Куда валить?
— Да хоть куда-нибудь! Закончим школу и уедем. Я помогу тебе поступить. Будем среди нормальных людей. Заебала вся эта пацанская тема: братва, стремяги, менты, совки, черносотенцы, православные хоругвеносцы какие-то… Сплошная блатота на понятиях. Живут не как в городе, а как на зоне. У них не районы, а бараки с локалками. Не завод, а промка. Не площадь перед мэрией, а плац перед дежурной частью. И ещё запретка вокруг. А всё, что за ней — галимая гомосятина. Даже радугу несчастную зафоршмачили, типа, как свастику. А она — не свастика. Радуга — это просто радуга. Весь мир радужный, но не потому что в нём пидоры, а потому что он разноцветный. Только Крестов с головы до ног коричневый — то ли говняный, то ли фашистский.
— Тише будь.
— Димон, хватит! Кого ты боишься? Своих дебилов-корешей, которые что-то могут подумать? Они по-любому что-то подумают. Они так устроены. Им обязательно нужно что-то подумать, кого-нибудь обосрать, а кого-нибудь — обоссать. Хуй с ними, уедем, а они пусть остаются и думают всё, что угодно.
— Мы-то, может, и уедем, но они-то останутся. И будут думать всё, что угодно. А мне не в жилу, когда обо мне думают всё, что угодно, — сказал Димон.
— Он просто дурак, — сказал Макс много лет спустя и совсем по другому поводу (сосед снизу донимал своими придирками из-за мнимо текущей трубы и однажды нервы сдали).
— Настучит на тебя в ментовку, — предостерёг я, потому что Макс — мой тонкошеий доходяжка Макс — только что насыпал мужику полную панамку и доложил сверху его же разбитые очки.
— Пусть стучит. Не знаешь, где перекись? Мне нужно обработать ссадину.
— Надо было просто закрыть дверь перед носом и не выслушивать этого мудака. В аптечке.
— Спасибо. Он обзывался.
— Обидными словами?
— Про заднеприводных и с применением обсценной лексики.
— Тогда надо было будить меня.
— Зачем? Я в состоянии постоять за нас обоих, — отрезал Макс.
— И ходить потом с синяками?
— Мелочи жизни, — ответил он, и это — уже следующий эпизод, который говорил о Максе больше, чем рассказывала его кладовая с воспоминаниями.
— Нам нечем платить за жильё, — сознался я, потому что в результате лихой авантюры потерял работу и все сбережения.
— Перехвачу у мамы.
— Не знаю, когда сможем вернуть. На меня в наказание повесили крупную сумму.
— Продадим чайный сервиз бабули. Это кузнецовский фарфор, выручим за него полмиллиона.
— И тебе не жалко?
— Мне жалко, что я не убил тебя с самого начала, но теперь уже поздно, — ответил Макс, и это — эпизод номер три: спустя полтора года совместной жизни вскрылся мой адюльтер.
— Я подхватил ВИЧ, — сказал я.
— Это ценное приобретение. Надеюсь, хоть чему-нибудь тебя научит.
— Наверное, мне стоит собрать шмотки и съехать.
— Наверное, тебе стоит сходить к инфекционисту. Сходим к нему вместе. Но если выяснится, что ты заразил меня, я тебя кастрирую.
— Если выяснится, что я заразил тебя, я сам себя кастрирую.
— Подожди, включу диктофон. Хочу иметь доказательство твоего добровольного согласия.
— Я облажался. Мне хуёво.
— Хватит ныть. ВИЧ — это смертельно, но жить можно.
— Как? Инвалидом? В постоянном страхе? Бояться обычной простуды и в итоге помереть от насморка?
— Ты заткнёшься, наконец? Могу я нормально послушать музыку?
Конечно, заткнусь, моё тонкошеее чудовище! Жизнь со мной — это трип с препятствиями, которые ты перепрыгивал и милосердно помогал преодолевать мне, поэтому у тебя есть право нормально послушать музыку — любую, даже свою Агузарову, даже в формате mp3, даже громко, а если не хватит мощности — высаживай мои колонки, хрен с ними, купим новые. А лучше — старые, второй половины семидесятых. Хочешь Sony? Или того хуже — Grundig? Или вообще советские «Корветы», воспроизводящие не звук, а прошедшее время? Выпишем тебя из больницы, сгоняем на барахолку, подберём самую убитую пару — с историей, с запахом прежнего владельца, с его перхотью на потрёпанных диффузорах. Словом, отыщем акустику повинтажнее, но вместо неё заберём большой несгораемый шкаф — спецом под хранение твоих мнемонических аксессуаров, и я буду признателен, если выделишь в нём местечко под мою собственную коллекцию, которую я тоже намерен собрать. Видишь, я согласен на всё! Даже на то, чтобы вернуться в нашу съёмную двушку, в эту задрызганную халупу Ираиды-кудесницы. Объявим эти трущобы зоной, свободной от модернизации, и да проклянёт нас Создатель, если когда-нибудь искусимся на косметический ремонт. Какую ещё луну достать для тебя с неба, мой архивариус? (Запускайте финальные титры!)
Финальные титры
В пятницу 16 октября 2020 года, в 8:32 пополудни, находясь по адресу: Бжижзсгкий проезд, 15/2, в здании городской больницы № 40, в её главном корпусе, поднимаясь по служебной лестнице, остановившись между четвёртым и пятым этажами Алекс вдруг понял, что настоящее приобретает свою ценность только в сравнении с прошлым.
3
Оно почему-то тикало. Размеренно. Флегматично. С возмутительным спокойствием отсчитывая на кафельном полу стыки и на каждом втором воспроизводя этот изуверский, парализующий звук — будто настенные часы, то ли в назидание, то ли с издёвкой помещённые перед камерой смертника. Это было колесо — небольшое, подзаедающее колесцо — заднее левое, кособокой медицинской каталки о четырёх стойках с перекладинами и лежаком нищенского цвета, уж точно не белого. И простыня этому позорищу под стать: многажды и небрежно стиранная, с пятном и прорехой — даже не простыня и даже не саван, а воплощённое оскорбление. Как они посмели накрыть твоё лицо этой тряпкой, Макс?
Постой, Макс. Куда же ты торопишься? Вели санитару, чтоб вёз помедленнее. Дай хоть объясниться. Я опоздал не по своей вине: Волотов вылез из ниоткуда, толстая Гейзиха на входе не хотела пускать, Йозик, который должен был лечить, умотал на конференцию, а, скорее всего, укатил жрать солянку. Но ты ведь тоже не идеален! Мог бы дождаться. А теперь что прикажешь делать?
Молчит.
Макс, прекращай дурить. Слезай с этой каталки и айда домой. Если не можешь, я донесу на руках — своя ноша не тянет. Мы, кстати, успеваем на рейс, он в два часа ночи, я ничего не отменял. Путешествие всяко лучше больничного морга — ты ведь понимаешь, куда тебя везут?
Отмалчивается.
— Я хочу присутствовать, — сказал я санитару.
— Вообще-то, я медсестра.
— Прошу прощения, сударыня, но этот балахон, который на вас… Кто угодно спутает… Впрочем, это не важно. Я хочу присутствовать.
— Где именно?
— Там. При вскрытии.
— С какой целью?
— Имею право. Я член семьи.
— Это не достаточное основание.
— Тогда я позвоню прокурору.
— И что ему скажете?
— Найду что. Но вашу больницу поставят раком.
— Выбирайте выражения.
— Порвут на британский флаг. Разнесут по кирпичикам. Сотрут с лица земли.
— С чего бы?
— С того бы, что живых людей в морг отправляете.
Медсестра остановилась. Взялась за края простыни, чтоб показать, насколько я ошибаюсь.
Мне стало совсем страшно:
— Не открывайте. Видеть ничего не хочу. Пока вы тут возитесь, мы могли бы успеть в реанимацию. Время уходит. Сколько уже прошло? Ведь можно ещё что-то сделать, даже если начались все эти изменения в мозгу… Даже если они начались, то чёрт с ними — Макс не безнадёжный дурак, обязательно восстановится… Даже если не восстановится, а останется овощем, это не играет роли, потому что он всё-таки останется…
— Вы ведёте себя глупо.
— Глупо — это умереть в самый неподходящий момент. И эгоистично. Как мне теперь быть?
— Как-нибудь. Например, отвлечься. Займитесь похоронами.
— Издеваетесь? У меня завтра День рождения.
— Поздравляю. Сочувствую.
— Вы осознаёте, как это звучит?
— Мужчина, конкретные замечания или предложения имеются? Нет? Тогда, может, пропустите нас? А то дел ещё по горло…
— Каких дел? Дела ведь только завтра! Гейзерова сказала, что вскрытие не раньше полудня!
— Вы не так поняли. Мне ещё дочерей из садика забирать, их у меня девять и каждая с характером. Музочки мои.
— Рад за вашу плодовитость, но мне-то что делать?
— Не забивать себе голову. Не мучить себя. Отпустить. Всё уже в прошлом.
— Отпустить? Три дня подряд меня уговаривали чуть ли не переспать с прошлым, убеждали слиться с ним в пароксизме страсти…
— Не нужно с ним спать и тем более сливаться. Нужно просто согласиться с тем, что оно есть и оставить его в покое.
— Как, по-вашему, у меня это получится?
— У многих получилось.
— Я — не многие.
— Вы — особый случай?
— Да. Особый, уникальный, не имеющий аналогов.
— Со своим особым путём? Жизненными устоями? Моралью? Ценностями? Скрепами?
— Вы ведь сейчас троллите?
— Не без этого.
— А не пошли бы вы, дамочка…
— Мы бы с удовольствием пошли, мужчиночка, да только вы тут со своими сантиментами по былому…
— Это я тут со своими сантиментами по былому?
— Что за дурная манера переспрашивать? Да, вы. Я вам сейчас продемонстрирую, над чем вы так убиваетесь, — она снова взялась за края простыни, но я снова струсил:
— Не надо мне ничего демонстрировать. Идите. Скатертью дорожка.
— Спасибо на добром слове.
— Впрочем, постойте. Дайте хоть проститься.
— Пары минут вам хватит? Я могу подождать в сторонке.
— Просто откройте ему лицо.
— Вы уверены, что хотите этого?
— Уверен.
— Вы уверены, что способны выдержать это зрелище?
— Да открывайте уже!
Медсестра, выполняя просьбу, аккуратно убирает край простыни. Алекс, узрев явленное, ослабляет узел своего галстука и расстёгивает верхнюю пуговицу так, будто не хватает воздуха. Потом встряхивает головой, как бы пытаясь отогнать наваждение, стирает со лба вдруг возникшую испарину, осматривает ладонь (она влажная) и лезет в карман за носовым платком, которого там не оказывается. Похлопав по другому карману, вытаскивает из него коробок мятных пастилок, предлагает медсестре — та качает головой, мол, спасибо, не нужно, поэтому Алекс высыпает содержимое целиком себе в рот, начинает жевать, морщится и сплёвывает всё на пол.
АЛЕКС. Но ведь это не Макс!
МАКС. Конечно, это не я!
Интермедия
— Димон — это ты?
— А кто спрашивает?
— Димон Волотов — это ты?
— С какой целью интересуешься?
— Слышь, бэтмен, понты будешь нарезать перед своими корешами. Для тебя я на «вы» и «Вячеслав Михайлович».
— Сорян, попутал.
— Чего-о-о?
— Извините, говорю, Вячеслав Михайлович.
— Зачем близкого своего вломил?
— Какого близкого?
— Если тебе сейчас нюх начистить, ты соображать быстрее начнёшь? Или совсем потеряешься?
— Я понял. Отпустите. Я не вламывал. Я не сука.
— А кто сука?
— Не знаю.
— А кто знает?
— Да отпустите, блин! Пацаны сами догадались. Меня под сомнение поставили. Если б батя узнал, вообще бы голову открутил. Он сиженый. У него всё строго. Мне пришлось.
— «Пришлось» это значит «зассал»?
— Я не хотел. Другого выхода не было.
— И что батя? Не узнал?
— Узнал, но я съехал. Сказал, что по синьке одному пидорку на рот выдал. По понятиям это не стрёмно.
— Вы по-людски-то умеете жить? Или только по понятиям?
— По понятиям это одно и то же. Можно мне Артура повидать?
— На кой?
— Замириться хотел.
— Как ты будешь с ним замиряться, если он по-вашему опущенный?
— Ну чисто поговорить…
— Поздно чисто разговаривать. Уехал он. В другой город. Проебал ты своего близкого. Живи теперь с этим.
Конец интермедии
— Но ведь это не Макс! — заорал я.
— Конечно же, нет! — возмутился Макс.
Он стоял позади меня — живёхонький, в больничной пижаме, с полотенцем в одной руке и походным несессером для гигиенических мелочей — в другой.
— Явление народу… — выдохнул я. — Второе пришествие… Близкие контакты третьей степени, мать вашу…
— Подозреваю, всё худшее, что обо мне можно было подумать, ты обо мне подумал, — сказал Макс.
— Что это вообще было? — спросил я.
— Вероятно, чья-то ошибка. Кто-то неверно запомнил фамилию, оговорился или перепутал. В наших больницах ещё и не такое случается, — отмахнулся Макс.
— Спасибо, кэп, — съязвил я. И снова съязвил: — Как мне самому это не пришло в голову? — и добавил: — Так-то я о другом спрашивал…
— О чём? Об этом? — вмешалась медсестра, возвращая край простыни на место.
— Да, вот что это такое? Объясните мне! — повторил я.
— Я вас предупреждала, — ответила медсестра. — Есть вещи, которые выглядят неприглядно… Или таковыми кажутся… В зависимости от…
— Уважаемая, вы никуда не торопитесь? — намекнул ей Макс.
— Спасибо, что поинтересовались, — отбрила медсестра и, толкая перед собой каталку, двинулась по коридору. Дошла до конца — там был лифт — нажала на кнопку, дождалась кабины, загрузилась в неё и отправилась куда-то выше.
— Макс… — сказал я.
— Хреново выглядишь, Алекс… Будто тебя весь день без перерыва…
— Ну да, примерно так я себя и чувствую…
— Может, поедем домой?
— Тебя выписали?
— Ещё нет. Возможно, в понедельник. Но я хочу сейчас. Ты ведь не сдал билеты до Праги?
— А если тебя скрутит по дороге?
— Не скрутит. Первое предположение врачей оказалось верным. Это всего лишь переутомление. Свичкова на сметане и трдельник всё исправят. Я зверски хочу жрать.
— В Праге шикарные антикварные магазины.
— Их я тоже имел в виду. Дождёшься меня? Я переоденусь.
— Иди сюда…
— Ой, чой-та? Обнимашки?
— Я скучал…
— Не ври. Наверняка шастал по своим кобелям.
— Рота ёбарей давно распущена, я одинок, у меня есть только ты, бацилла моя тонкошеяя…
— Щас кто-то получит…
— Макс! Блин! Больно же!
— Больно? Я всего лишь укусил тебя за ухо.
— Вот потому и больно!
— Ты никогда никакой боли не чувствовал, тебе было по фиг…
— А теперь не по фиг.
— Ожил что ли?
— Хуёжил. Не знаю. Давай, просто постоим. Я реально соскучился.
— Нет уж, давай, пойдём, а то у тебя ещё кое-что ожило и сейчас не по фиг будет мне.
— Кстати, я ведь кое-что принёс…
— Что это?
— Твоя медаль. Значок за участие в спасательных работах.
— Тебе удалось его найти?
— Да. Найти и восстановить последовательность событий. Афёра с похищением Клопселя оказалась сомнительной. Судя по всему, Тадж-Махал, то есть, усадьба помещика Махалова начала разрушаться прямо на твоих глазах, угрожая заживо похоронить собаку. Однако ценой, вероятно, невероятных усилий ты вытащил Клопселя из-под обломков. Всё закончилось благополучно, никто не пострадал. Верно?
— Пойдём отсюда.
— Уходишь от ответа?
— Просто поехали домой.
— Макс…
— Алекс, ну сколько можно? Пятнадцать лет ведь прошло!
— О как!
Суббота 30 апреля 2005
Сегодня проспал. Пришлось срываться из дома, даже не умывшись. Позавтракать тоже не успел. Ненавижу. Если утром не пожру, потом полдня мутит.
До места добрался через пень-колоду. 47-й сломался, пришлось ждать следующий. В Жилищник приехал в 8:15, а планировал без пятнадцати. Как теперь искать Жопанну с Клопселем? Вывела она его? Или уже успела завести? Обычно, они идут выгуливаться ровно в восемь. Правда, сегодня выходной, значит, могут проснуться позже. Но, с другой стороны, у них поезд в 11, поэтому не могут. Короче, ни хрена непонятно. Надо добежать до кондитерской — вдруг они там?
А если не там? А если они прямо сейчас идут мне навстречу — возвращаются домой с кофе и круассанами? «Ой, Максюша, ты как здесь очутился?» — «Ой, Жопаннюша, я вот так здесь очутился. Чтобы Клопселя похитить. И чтоб поездку вам сорвать, потому что ни на какую выставку вы без него не поедете. Муа-ха-ха!»
А дальше уже му-го-го, потому что кондитерская оказалась закрытой. Внутри, естественно, никого, на двери объявление: «Простите, парам-пам-пам. Открылись по новому адресу. Ждём вас там, там-тарам»… или что-то в этом духе — я не вчитывался. Словом, можно было с позором возвращаться домой, потому что похититель из меня беспонтовый, но тут началось реальное бу-га-га:
— Ой, Максюша, ты как здесь очутился?
— Уроки прогуливаю, — отвечаю я первое, что приходит в голову, и оборачиваюсь. OMG! Это не Жопанна. Это ещё хуже. Это — мамина подруга Арина-Пачка-Аспирина:
— Мелкий пакостник. Врёшь, небось, что прогуливаешь. Иди поцелую.
— Лучше не надо.
— Гадкий мальчик. Дай я тебя в румяную щёчку… и в другую… и в носик… и в лобик… Дрянь моя маленькая.
Пытаюсь вырваться, испытываю желание заорать «памагити!».
— По мамочке твоей тоже соскучилась. На праздниках забегу проведать.
О боже! Только не это! Я забаррикадируюсь. Живым не дамся.
— Передай ей, что работаю теперь через улицу от вас. В новой аптеке. Буду делать вам скидочки.
Замечаю Жопанну. Стоит на аллейке у кофейного киоска. Похоже, покупает свой любимый раф с кленовым сиропом. Конечно же, расплачивается мелочью. Выгребает из кармана на прилавок, а бариста, бедняга, пересчитывает. Рядом Клопсель. Покорно ждёт с таким видом, будто его недавно отругали. Ничего удивительного, Жопанна постоянно докапывается до пёселя по всякой хуйне.
Я делаю шаг за угол, чтоб она меня не заметила, и тихо говорю:
— Арина, видишь тётку с собакой?
— С собакой и с жопой?
— Да. Это Жанна-Жопанна.
— Ах, так это она!!!
— Арина, тише.
— Молчу. Дай скорее поцелюлю ещё разик.
— У тебя губы слюнявые.
— Сволочь мерзкая. Тискала бы тебя и тискала.
— Арина, давай потом. Можешь её отвлечь?
— Могу. Зачем?
— Хочу украсть у неё собаку. Это мой Клопсель. Я очень скучаю. Отец, когда уходил, забрал его с собой — для Жопанны.
— Для этой шмары? Мы сейчас пойдём и заберём у неё жопу. А Клопселя… боже! какое миленькое имячко… она сама отдаст. Дешёвка.
— Не отдаст.
— Я её схвачу и буду держать, пока вы с Клопселем убегаете.
— Она начнёт терпилить и звать на помощь.
— Не начнёт. Я буду её держать и щекотать. Она будет хохотать и извиваться.
— Ну Арина, я ведь серьёзно…
— Хорошо, что ты предлагаешь? Можем стукнуть её по башке. Или напихать полную жопу аспирина. А потом стукнуть по башке. Тело спрячем в кустах. Когда она очухается, вы уже будете далеко.
— Арина, блин… Просто отвлеки её как-нибудь на пару минут.
— Какой коварный интриган! По глазёнкам вижу, что задумал теракт. Маленький извращенец, — и походкой циркуля чешет прямо к Жопанне. Я, согнувшись, прусь по газону. Из-за кустов меня не видно. Слышу, что там вытворяет Арина:
— Жанна! Жанночка! Жопанночка моя! Ну наконец-то! Когда тебя ждать в гости? Сегодня? Я сохранила все твои журналы, можешь их забрать.
— Какие журналы?
— «Пентхаус» и «Всё для дачи». Подшивки за три года.
— Какие «Пентхаус» и «Для дачи»? Вы вообще — кто?
— Я же Розалия! Не узнала меня? Это прям комплимент! Я недавно сделала пластику — поправила губки, бровки, ушки и кое-что по мелочи. Дай же скорее обниму тебя и расцелую во все места!
Подбираюсь ближе. Клопсель замечает меня, виляет хвостом. Показываю ему конфету. Он не решается её взять. По ходу, от Жопанны действительно сегодня влетело.
— Женщина, прекратите меня мацать! — возмущается Жопанна, но Арина в своём репертуаре:
— О боже, у тебя такая попа! Это же Лувр, а не попа! Эрмитаж! Кунсткамера! Кстати, а что клиенты — довольны?
— Какие клиенты? Отпустите меня! Кто вы такая?
Чтобы не спалиться, встаю на карачки, коленями в мокрое. Клопсель теперь на расстоянии вытянутой руки. Достаю из рюкзака мешок и плюшевую собаку.
— Да я же подружка твоя! — несёт пургу Арина. — Почти сестра! Мы познакомились в Монголии и целых три года были неразлучны. О этот дивный Улан-Батор! Монгольский Париж! Цветущий город-сад! Я работала в ресторане «Кырым-Бырым». Официанткой. А ты — проституткой. Помнишь Эрменгельдека?
— Женщина, вы психически больная?
— Ну как же ты не помнишь Эрменгельдека, своего сутенёра? Высокий, широкоплечий, морда кирпичом. Настоящий потомок азиатских завоевателей. Он был страстно в тебя влюблён, называл «моя луноликая Айжанэ», но тайком строил глазки администраторше и нашёптывал ей всякие милые гадости.
Клопсель уже елозит. Высунув язык, перетаптывается на месте, но пока молчит. Я аккуратно, чтобы не дёрнуть, отстёгиваю поводок от его ошейника и цепляю на игрушку. Краем глаза вижу, как Арина шажками теснит Жопанну к киоску, загораживая ей обзор, чтоб та ничего не просекла.
— Я позову на помощь, — грозится Жопанна.
Осторожно за ошейник подтягиваю к себе Клопселя. Он начинает что-то подозревать и упирается.
— Ах, Жанночка-Айжаночка! — в открытую стебётся Арина. — Какая же ты была дура, что тогда сбежала от Эрменгельдека — простоволосая, босая, зарёванная. А он гнался за тобой через степь, погоняя дикого скакуна — обезумевший, голый, со вздыбленным жезлом…
На «жезле» понимаю, что по-тихому засунуть в мешок Клопселя не удастся. Хватаю его на руки и рву когти. Клопсель заходится в истерике. Слышу, как Жопанна вопит: «Клёпа! Клё! Па!» Я не оборачиваюсь. Под ногами чавкает, но я ломлюсь без разбору. Прямо через кусты. Лишь бы быстрее. Разглядела меня Жопанна? Или нет? Или она так отреагировала на мой прикол с игрушкой? Дёрнула за поводок, а на нём плюшевый барбос. Вместо Клопселя. Нафига я вообще заморочился? С этой подменой? Чтоб веселее было?
Запихать на бегу живую собаку в мешок. Нереально. Это десять кило. Которые в панике верещат и кусаются. Герасиму было проще. Ему хотя бы не требовалось…
Спотыкаюсь. И ещё раз. Сердце колотится. Дыхалки не хватает. Хочется упасть. И отдышаться. И вообще. Бросить всё. К чёртовой матери.
У Тадж-Махала наконец получается. Упаковать Клопселя. Но он не сдаётся. Брыкается. Пытается рвать мешковину. Осталось последнее — в подвал. И дверь — на леску. И всё.
Но вход закрыт. Заколочен. «Стой! Сука, стой! Сука, стой!» Это Жопанна. Всё это время бежала за мной. Через секунды окажется рядом. Бью ногой по цокольному окну. Не разбивается. Нужно сильнее. Снова с размаху. Осколки летят вниз. Я уже не понимаю, зачем это делаю. Какой смысл? Но проталкиваю мешок с Клопселем внутрь. Знаю, что там, в подвале, бетонный пол. Клопсель больно ударится. Надеюсь, не расшибётся.
Шлепок. Собачий визг. И сразу — Жопанна. На меня с кулаками. Закрываюсь локтями. Прячу голову в плечи. «Сука, стой! Сука, стой! Сухо, стой!» На другие слова её уже не хватает. Удары по спине. Со всей силы. Как теннисными мячиками. Могу отбежать в сторону, но почему-то терплю. Клопсель скулит и тявкает. Плачет.
«Где он? Сука! Сука ты! Сукак туда пройти?» Я молчу. Тоже плачу. Жопанна бежит к двери. Дёргает за ручку. Зачем? Доски же. Крест-накрест. Тогда она огибает здание. Я не выдерживаю и — следом. Парадный вход. «Не там! — кричу. — Не там!» Не слушает меня. Слышать не хочет. Вошла.
— Ты ведь обманул меня? — выворачивает из-за угла Арина. — Я подозревала, что в блудняк вписываюсь. Мерзкий мальчик.
— Это из-за отца.
— Я так и поняла.
— Он для них делал всё, а для меня…
— Можешь не объяснять, я в курсе. Где псина?
— Сейчас выпущу.
— Спрятал её здесь? Жутковатое местечко.
— Просто старое здание.
— Что ж вы все помешались на старом? Откуда такая тяга к прошлому?
— Там красиво.
— Там насрано!
— Раньше музей был. Экскурсии водили.
— Не было никакого музея. Я в этом районе с детства живу. Сколько себя помню, в Тадж-Махал только ссать и срать бегали.
Слышится треск, звук падения, потом — вскрик и ругань.
— Это кто? — спрашивает Арина.
— Жопанна.
— Какого мужского полового она туда попёрлась?
— Я ей говорил, что Клопсель не там, но она всё равно…
— Почему тогда матерится?
— Наверное, упала в какашки.
— В какие в какашки?
— Там ступеньки. Очень старые. Если подниматься, могут не выдержать. Тогда падаешь прямо в какашки.
— Ты ебанько? А если она что-нибудь себе сломала? — быстро идёт внутрь, кричит: «Жанна! Вы в порядке?! Жанна!»
Арина знала, о каких ступеньках идёт речь (винтовая лестница из мавританской гостиной в башню), поэтому, оказавшись в доме, намеревалась свернуть влево, но столкнулась с труднопреодолимым. Пол был обезображен фекалиями — не пол, а минное поле. «Здесь стало ещё гаже», — решила она, не замечая ни палисандрового паркета, ни мозаичных колонн, ни расписных потолков, которые даже в теперешнем состоянии выглядели шедеврами. Арина видела только скопления нечистот и ещё (как же это удивительно!) свой кошелёк — старый, телячьей кожи, оброненный здесь много лет назад, когда Арина спасалась бегством от неприятности, о которой впоследствии не рассказала никому и о которой старалась не вспоминать. Кошелёк так и пролежал здесь, в прихожей, притопленный в не высыхающей смердящей луже, невостребованный, вероятно, даже не обшаренный, до сих пор берегущий пятьдесят рублей с мелочью и рецепт на глазные капли, на обороте коего химическим карандашом был записан номер усатого искусителя, обаятельного мерзавца, главного персонажа последующих ночных кошмаров. Если б Арина не боялась испачкаться, она бы пинком добила утопающего, но побрезговала даже плюнуть. Давно извинив себе собственное легкомыслие, она не могла простить кошелёк, сохранивший свидетельство её стыда, и тем более не хотела прощать этот дом. Однако дом был не виноват.
Миновав прихожую с гардеробной, Арина оказалась в столовой (гостиная находилась чуть дальше) и тут же вынужденно зажала пальцами нос, чтобы дышать ртом, но воображение мигом нарисовало нечто и вовсе отвратительное — будто микроскопические капли каловых масс, пахучим и почти осязаемым туманцем зависшие в воздухе, оседают ей на нёбо. Из желудка к горлу поднялся кисло-сладкий тромб с привкусом вишнёвого йогурта, съеденного на завтрак. Арина дважды звучно икнула и вытошнила прямо себе под ноги. «Кто там? Не смейте приближаться!» — услыхала она голос Жанны, плачущей, совершенно не понимающей, что теперь делать и как показаться на люди. «Вы в порядке?» — крикнула Арина. «Куда вы дели мою собаку? Немедленно уйдите отсюда!» — потребовала Жанна. «Да погодите же, оглашенная! Жива ваша собака! Давайте уйдём отсюда вместе! Я помогу вам!» — сказала Арина и, утратив осторожность, вступила в склизкую дрянь, которая мстительно хлюпнула под подошвой. «Ах ты, сволочная избушка! Ящик с помоями! Коробка дерьма!» — разошлась Арина. Она ругалась настолько яростно, что Максу на улице было слышно каждое слово. «Зря она так», — подумал он и, будто в ответ, где-то в глубине дома что-то протяжно заскрипело; заскрежетав, поволоклось; содрогнулось, глухо стукнулось и наконец обвалилось, выдохнув через оконные проёмы известью и алебастром.
Я сразу понял, что произошло. Балки. Прогнившие. Потолок — всё. Забегаю внутрь. Под ногами обломки и много пыли в воздухе. Ничего не видно. Пытаюсь пройти дальше, но там такое, что ноги переломаешь. Голос. Не могу разобрать, чей. «Помогите! Скорую!» Как я отсюда её вызову? Морзянкой? Выхожу наружу. В парке вообще никого. А нет, какая-то собачница на аллейке, в самом конце. С доберманом. Сейчас улицу перейдут — и пздц. Надо догнать. Срываюсь с места и несусь, как угорелый. Ору во всю глотку. Собачница не слышит. Либо плеер, либо глухая. Зато её добик — хренов бобик — меня замечает. Гавкает. Рвётся с поводка. Собачница, по ходу, совсем отмороженная. В наушниках на полбашки. Видит, что я зову её, но тупит. Смотрит на меня и пса за поводок одёргивает. Нет, чтоб плеер выключить. Овца, блеать. Идут два мента. Я кричу, типа, Тадж-Махал, авария, завалило, а они подходят и начинают: «Кто такой? Откуда? Что в рюкзаке?» Бомба у меня рюкзаке! Что ещё у меня может быть в рюкзаке?! Наконец дупли складывают и говорят: «Веди показывай». Я: «Надо скорую. Срочно». А им реально пох. Глумятся: «Ага, и скорую, и спасателей, и Шойгу с чемоданом.» Потом видят, что я не пизжу, и пшикают по рации. А их спрашивают оттуда, какой адрес? А они назвать не могут. И я не могу — просто Тадж-Махал и Тадж-Махал. Все в городе знают. А эти не знают. Бред, короче.
В итоге разобрались. Спасатели подъехали, но не сразу. Я до их приезда успел Клопселя из подвала вызволить. Менты ничего не сказали, когда я доски начал отдирать. Только спросили, на хера я это делаю. Могли бы и не спрашивать, потому что Клопсель от лая охрип, бедолага. Жопанна, кстати, сама выбралась. Через окно. Менты ей, типа, ты цела? А она, типа, нет, ноготь на пальце сломала. Увидела, что я Клопселя несу, разрыдалась. «Спасибо, Максюша, спасибо!» Я аж охуел. Меня за такое пиздить надо, а не благодарить, потому что Арину из-под завалов еле достали. Вынесли на носилках. Сказали, что состояние тяжёлое, но выживет. Но ходить больше не будет. Вообще не знаю, как матери теперь объяснять. Даже не представляю, как смогу всё это описать и в дневнике оставить.
Эпилог
Вернувшись из поездки, Йозик Евгеньевич прямо с самолёта отправился в больницу. Там, у кабинета его поджидал Волотов.
— Как жизнь? — спросил Йозик Евгеньевич, открывая дверь и пропуская своего визави вперёд.
— Увольняюсь, — ответил Волотов.
— А что так?
— Мне здесь не место. Хочу назад.
— С Алексом хоть удалось повидаться? Точнее, с Артуром…
— Удалось. Спасибо.
— Решили свои вопросы?
— Решили.
— Простил он тебя?
— Надеюсь. Передадите ему кое-что?
— Что именно?
— Так. На память. Прощайте, — и, уходя, оставил конверт. Йозик Евгеньевич, конечно же, не преминул полюбопытствовать. Там лежала старая фотография, которую Волотов все эти годы бережно хранил: два молодых парня — оба счастливые, только один — в открытую, а второй — скрывает, но всё равно заметно.
Поразмыслив минуту, Йозик Евгеньевич решил, что просьба Волотова какая-то непоследовательная, поэтому ничего передавать не нужно. И порвал фотографию. Однако сочтя это недостаточным, сжёг разрозненные её клочки, окончательно приговорив прошлое оставаться в прошлом.
Август 2023
Пока никто не предлагал правок к этому материалу. Возможно, это потому, что он всем хорош.
Эту повесть Михаэля отправить «Дискурсу» рекомендовал я – на днях начинал читать (и сейчас дочитал до конца), показалось, что по духу, по общему стилю текст будет в духе проекта.
Название повести «Архивариус» неслучайно, поскольку в истории личных (любовных) отношений главных героев (Алекса и Макса) большую роль играют воспоминания об их травматичном прошлом. Только степень отношения к этому прошлому у них разная: если Алекс пытается показать, что ему на прошлое всё равно, Макс переживает трагедию взаимоотношений с родителями, «поломанной семьи» вообще, находя утешения в сохраняемых с детства/юности вещах.
Значимую роль в анализе отношений между Максом и Алексом играет еврей-врач Йозик (психотерапевт по специальности), бывший одноклассник Алекса. Он наглядно показывает Алексу, что и его отношение к прошлому не так уж однозначно. Потому что в этом прошлом тоже всё густо замешано на травме принятия своей гомосексуальной инаковости, над которой издевался отец. Отсюда и общий стиль повествования от лица (Алекса): стёбный, нарочито кривлячий, можно даже сказать – клоунский, за ним Алекс прячет свою боль.
Вместе с тем текст представляет собой постепенно разворачиваемую в режиме реального времени детективную головоломку, связанную с прошлым Макса. В этой разноплановости повести есть свой интригующий крючок для читателя.
Про общий стиль повествования хотелось бы ещё добавить, что автор, на самом деле, изначально текст готовил в качестве сценария короткометражки, но реализовать тот проект по каким-то причинам не получилось. Поэтому в стилистике общей ощущается этакий налёт маскарадности, как бы такого постмодернистского шаржа, дараматургической искусственности, которая, впрочем вполне оправдана замыслом – у Михаэля такой стиль.
В общем, я голосую за этот текст, мой плюс.














