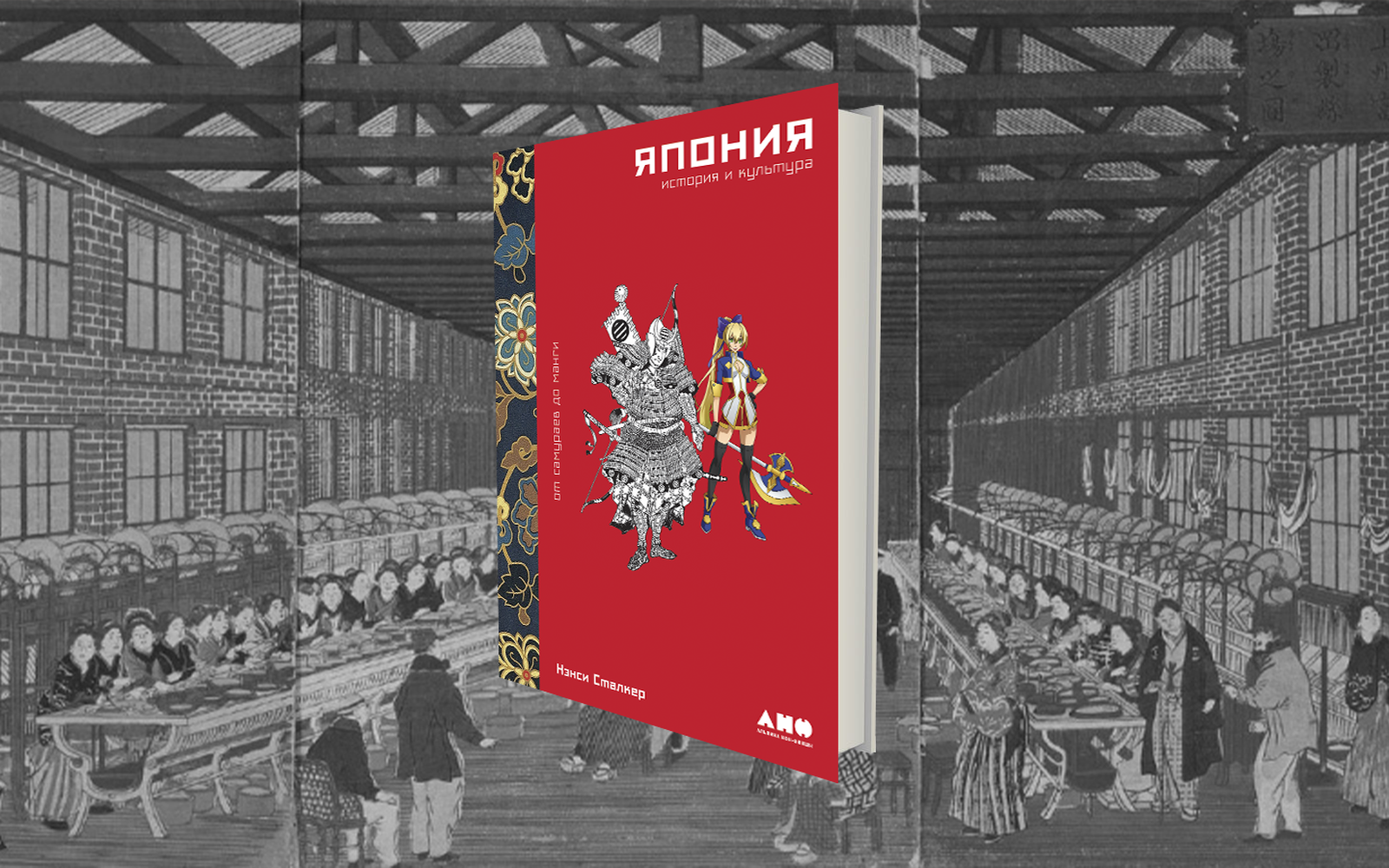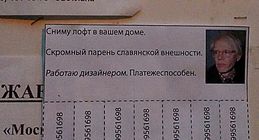В середине XIX века Япония стала открываться Западному миру. Но одновременно японское государство, пережившее 800 лет военной диктатуры, старалось закрепить жесткие патриархальные принципы общественного устройства. Нэнси Сталкер, автор книги «Япония. История и культура: от самураев до манги» рассказывает о переходном этапе в истории страны, когда государство с помощью интеллектуалов и писателей старалось привить своим гражданам западные ценности, но одновременно пыталось держаться корней, боролось за традиции, но способствовало появлению новых религий, поощряло синтоизм и запрещало буддизм — и в итоге изменило его до неузнаваемости.
Интеллектуальная жизнь в эпоху Мэйдзи
Многие интеллектуалы откликнулись на призыв Мэйдзи к вестернизации. Перевели и широко издавали работы западных политических теоретиков Джона Милля и Алексиса де Токвиля, что стимулировало японцев развивать гордый независимый дух и подчеркивало важность выражения собственных политических взглядов. Популярны были переводы «Робинзона Крузо» Даниэля Дефо — важнейшей истории о независимом человеке, полагающемся только на себя; труды Бенджамина Франклина; бестселлер Сэмюэла Смайлса 1845 года «Помоги себе сам», подчеркивавший необходимость просвещения и образования для рабочего класса, чтобы все могли жить цивилизованно и совершать великие дела.
Романы Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней» и «Путешествие на Луну» поддерживали идеи эпохи о научном прогрессе и новых горизонтах.
В 1870-х годах наиболее влиятельным пропагандистом западного знания был Фукудзава Юкити (1835–1901), чей портрет изображен на японской банкноте в 10 000 йен. Фукудзава родился в семье незнатного самурая. Он выучил голландский и английский и служил переводчиком в посольстве 1860 года, ратифицировавшем договор Гарриса. Два года спустя он отправился с другим посольством сёгуната в Англию, Францию, Голландию, Португалию и Россию, где взял от западной цивилизации все, что мог.
Фукудзава рассудил, что Япония была слабой и отсталой, поскольку традиционная культура не поощряла научного поиска, опоры на собственные силы и идеи индивидуальных достижений.
Чтобы привить эти ценности своим соотечественникам, он стал писателем и просветителем, основав в 1868 году школу, которая позже станет Университетом Кэйо, а также влиятельную газету «Дзидзи Симпо» и написав более сотни книг. В часто переиздаваемой «Автобиографии Фукудзавы Юкити», написанной незадолго до его смерти в 1901 году, автор заявляет, что цель его жизни была достигнута: феодальные привилегии и институции отменены, а Япония победила в первой Японско-китайской войне 1894–1895 годов.
В «Кратком очерке теории цивилизации» (1875) Фукудзава утверждал, что всякая цивилизация должна пройти три стадии: «примитивную», сообщества в которой недолговечны и зависимы от природы относительно еды и удовлетворения повседневных нужд, «развивающуюся», в которой сообщества постоянны и могут удовлетворять повседневные нужды своих членов, а также имеют базовые структуры управления, хотя люди еще привержены традиции и неспособны на оригинальное мышление, и «цивилизованную», где люди стремятся к знаниям, действуют независимо и планируют будущее. Фукудзава признает, что западные страны продвинулись по пути цивилизации дальше, чем азиатские страны: например, Китай, Япония и Турция были «полуцивилизованными», а Африка и Австралия оставались «совершенно примитивными землями». Он полагал, что уровень развития страны нельзя оценивать только по лидерам, поскольку «цивилизация — это не вопрос знания или невежества отдельных людей, но дух всей страны». Как показывает следующий отрывок, Фукудзава призывал всех образованных людей способствовать принятию западных норм и ценностей, которые, с его точки зрения, непререкаемо превосходили отечественные достижения:
«Если сравнить развитие западного человека и японца в литературе, искусстве, торговле или производстве, от больших вещей до самых малых, в тысяче случаев или в одном, не будет ни одного случая, в котором другая сторона не превзошла бы нас… Только самые невежественные могут полагать, что японское образование, искусство, торговля или производство — ровня западным. Кто сравнит повозку, влекомую человеком, с паровым двигателем, или японский меч с ружьем?.. Пока мы воспринимаем Японию как священный остров богов, они путешествуют по всему миру, открывая новые земли и основывая новые страны».
Появление на японском рынке западной литературы вдохновило молодых писателей заимствовать и адаптировать самые новые западные литературные подходы и приемы. Они столкнулись с большой проблемой, поскольку их традиционная литература была написана в классическом стиле, который не отражал разговорную речь. Кроме того, в японском появились многочисленные заимствования из других языков. Запущенные в 1880-х годах реформаторские движения за стандартизацию письменного стиля (гэмбунитти) понемногу проникали в японскую литературу. В 1900 году Министерство образования объявило реформу, нацеленную на облегчение чтения и письма путем стандартизации слогового письма кана, ограничения количества преподаваемых в школе китайских иероглифов (кандзи) и стандартизации их произношения.
Модернизация в литературе: от реализма к сатире и новой жертвенности
Писатель Цубоути Сёё в своей революционной работе «Сущность романа » (1885) впервые предлагает новую японскую литературу, которая преодолеет наследие «фривольных» писаний конца периода Эдо и произведений гэсаку начала эпохи Мэйдзи. Он утверждал, что роман — это серьезный жанр, который должен стремиться к реализму, выражать человеческие эмоции и новую самость. Первым успешным японским романом нового стиля обычно считают «Плывущее облако» Футабатэя Симэя (Укигумо, 1887). Главный герой Уцуми Бундзо — неудачливый интеллектуал, пытающийся завоевать любовь своей двоюродной сестры. Однако она предпочитает друга Уцуми Нобору — амбициозного молодого человека, обладающего всеми способностями для достижения успеха в новой эпохе Мэйдзи. В романе описываются глубины душевных страданий Бундзо, а создан он в новом стиле гэмбун-итти.
Мори Огай (1862–1922) и Нацумэ Сосэки (1867–1916) — писатели, глубоко отрефлексировавшие модернизацию Мэйдзи. Оба учились за границей: Огай в качестве офицера императорской армии учился в Германии медицине, а Сосэки изучал в Англии литературу. Опыт жизни за границей и круг чтения западной литературы глубоко повлияли на жизнь и творчество обоих. Огай с равным успехом писал художественную литературу, эссе и биографии. Его повесть «Танцовщица» 1890 года написана в доверительном автобиографическом стиле, который позже завоюет популярность под названием «Повесть о себе» (Ватакуси сёсэцу). Сюжет заключается в том, что молодой человек по имени Ота, живущий в Берлине, вступает в любовные отношения с немецкой девушкой. Однако позже он получает вызов обратно на родину, чтобы занять правительственный пост, и вынужден покинуть свою возлюбленную беременной и страдающей от нервного срыва. В романе Огая «Дикие гуси» в нескольких частях (Ган, 1911–1913) молодая женщина решает помочь своему стареющему отцу, став содержанкой у подлого денежного мешка. Теряя иллюзии относительно новой роскошной жизни, она влюбляется в молодого студента-медика Окаду, который ходит мимо ее балкона. Однако Окада уезжает из Японии учиться медицине в Германии.
Сосэки — один из наиболее уважаемых романистов Японии: его портрет красуется на 1000-йеновой банкноте. Он был болезненным, страдал от язвы и ментальных расстройств. Закончив изучение английской литературы в Токийском императорском университете и получив приглашение на место профессора в этом престижном учебном заведении, он завоевал популярность в 1906 году двумя юмористическими повестями: «Ваш покорный слуга кот » (Вагахай ва нэко де ару) и «Мальчуган» (Боччан). Первая повествует о коте, который в снобистской аристократической манере высмеивает глупость своего «хозяина» среднего класса и его друзей, а вторая — о мальчике-хулигане из Токио, который становится учителем на Сикоку . Одна из самых известных работ Сосэки — «Кокоро» («Сердце», 1914), роман из двух отдельных частей. В первой части юный студент-медик повествует о своих взаимоотношениях с необщительным старшим мужчиной, которого он называет Сэнсэй — словом, которым уважительно обращаются к наставникам и старшим, — и которого он встретил на берегу моря. Вернувшись в Токио, он навещает Сэнсэя и его супругу Сидзу и безуспешно пытается выяснить, отчего его старший товарищ так глубоко несчастен. Далее студент вынужден вернуться в провинцию к умирающему отцу; там он получает от Сэнсэя длинное письмо. Вторая часть романа представляет собой собственно письмо — предсмертное послание самоубийцы. В нем Сэнсэй рассказывает, что в молодости он вместе со своим лучшим другом К. был влюблен в Сидзу. Когда Сэнсэй получил от матери девушки разрешение жениться на любимой, К. почувствовал, что его предали, и совершил самоубийство. С тех пор Сэнсэя мучила совесть, а Сидзу так и не узнала причину смерти К. и не могла понять причину меланхолии своего мужа. Он объясняет, почему решил довериться своему молодому другу, но умоляет его никогда не открывать правды Сидзу:
«И в довершение всего вы начали настаивать на том, чтобы я развернул перед вами, как некий свиток, картину своего прошлого. В тот момент я впервые почувствовал уважение к вам. Потому, что вы выказали решимость взять без стеснения из моей груди что-то живое. Потому, что вы захотели разбить мое сердце и глотнуть теплого, текущего кровяного потока. Тогда я еще жил. Тогда я не хотел еще умирать. Поэтому я и отклонил тогда ваше требование, обещав вам исполнить его в другой раз. Теперь я хочу сам разбить свое собственное сердце и брызнуть на ваше лицо его кровью. Я доволен буду уже тем, что в тот момент, когда остановится его биение во мне, в вашей груди зародится новая жизнь».
Сэнсэй объясняет, что совершить самоубийство его подтолкнули действия генерала Ноги Марэсукэ, героя Русско-японской войны, который совершил дзюнси (ритуальное самоубийство вслед за господином) в ночь погребения императора Мэйдзи в 1912 году. Самоубийство Ноги спровоцировало жаркие дебаты в обществе Мэйдзи об уместности традиционного кодекса чести и самурайской доблести в современном мире. После того как погребальная процессия вышла из дворца, Ноги совершил сэппуку (ритуальное вспарывание живота), а его жена повела себя должным для верной супруги самурая образом — вскрыла себе яремную вену (дзигай). Общественные комментаторы обсуждали значение этих смертей. Некоторые осуждали эти действия как варварский пережиток вышедшего из употребления феодального кодекса. Другие утверждали, что этим Ноги выразил свое отвращение к упадку духовных ценностей. В предсмертной записке говорилось, что это искупление за многие смерти, за которые он как генерал чувствует свою ответственность. Ноги стал символом верности и самопожертвования, о котором многие вспоминали и в последующие эпохи.
Государственный синтоизм и другие религии
Реставрация Мэйдзи произвела значительные изменения в религиозном климате Японии. В эпоху Токугава буддийские школы действовали как полуофициальные государственные органы, ратующие за законы против христиан. В большинстве крупных религиозных комплексов сочетались буддийские и синтоистские элементы.
Однако первое правительство Мэйдзи планировало использовать императора в качестве священной фигуры основателя нового государства и поэтому подняло синтоизм на уровень государственной религии, заняв твердую антибуддийскую позицию.
Критики буддизма обвиняли его в том, что это завезенная, чужая религия, полная суеверий, иррациональная и, более того, не занимающаяся социальной деятельностью и благотворительностью, как христианство в западных империалистических странах. С точки зрения критиков, буддизм больше не имел ничего общего с синтоизмом, который теперь официально воплощал «истинный» японский дух, столкнувшийся с вызовом модернизации. Государственные чиновники предпринимали меры, чтобы принудительно отделить буддизм от синтоизма, что приводило к тому, что в первое десятилетие периода Мэйдзи по всей Японии масштабно разрушали буддийские храмы, уничтожали изображения и тексты. В период с 1868 по 1874 год исчезло более 1000 буддийских храмов. В синтоистских святилищах, в которых ками сначала ассоциировали с буддийскими божествами, теперь уничтожали любые следы буддийских изображений и ритуалов.
Храмовые земли отошли казне, а буддийских монахов заставили стать синтоистскими священниками или отречься от сана. В 1872 году правительство Мэйдзи изменило законы относительно буддийских священников, разрешив им есть мясо, жениться, отращивать волосы, одеваться в гражданскую одежду и делать многие другие вещи, которые были раньше запрещены духовенству.
Важные изменения в религиозной политике создали тот японский буддизм, который мы знаем и сегодня, — во всем мире он считается аномальным, поскольку практически все буддийские священники женаты и передают свой приход по наследству сыновьям. Несмотря на короткий период гонений, буддийские школы сохранили богатство и популярность и вскоре начали восстанавливать свой авторитет и влияние.
Одно буддийское учение под руководством просветителя Иноуэ Энрё (1858–1919) пыталось представить буддизм как прогрессивную и рациональную религию с точки зрения западной теории социальной эволюции. Они отделяли японский буддизм от традиций Тхеравады, распространенных в Юго-Восточной Азии и на Шри-Ланке. Европейские востоковеды, изучавшие учения Тхеравады, утверждали, что буддизм — религия атеистичная и идолопоклонническая и что пассивность, привитая им, виновна в относительном отставании Азии в развитии. Японские буддисты боролись с этой точкой зрения, утверждая, что их форма буддизма — это этическая вера, находящаяся на одной волне с Просвещением, в отличие от христианства, которое основывается на мифах. Лидеры этого «нового буддизма» заявили о своем существовании в 1893 году в Чикаго на Всемирном парламенте религий, пытаясь убедить иудео-христианских религиозных лидеров в «цивилизованной» природе японской религии, которая может подсказать христианству решение вопроса, как увязать их веру с наукой.
После реставрации Мэйдзи синтоизм стали воспринимать скорее как инструмент объединения нации под предводительством императора, смешанный с поклонением ками, культом предков и верностью семье и нации.
Император, будучи священным потомком богини Солнца, выступал не просто главой государства, а еще и верховным жрецом синтоизма, ответственным за проведение ритуалов, обеспечивающих благополучие страны. Священникам синтоизма было приказано пройти стандартизованное обучение, однако многие не были согласны с официальным пантеоном, отдававшим предпочтение Аматэрасу перед ками Окунинуси из Идзумо, который воспринимался многими как равный или даже превосходящий богиню Солнца. Поскольку эта идея ставила под угрозу легитимность государства Мэйдзи, правительство решило разделить синтоизм на ритуальную часть, выполняемую уполномоченными от государства и воспринимаемую как часть гражданской ответственности любого японца, и доктринальную, основанную на индивидуальных религиозных верованиях и представлениях.
Чтобы распространять правильное понимание синтоизма как основы государства и препятствовать широкому распространению христианского прозелитизма, правительство запустило агитационную кампанию «Великого учения» (то есть синто), которая продолжалась с 1869 по 1885 год.
Чиновники, ответственные за эту кампанию, были учениками Хираты Ацутанэ. Они создали штат государственных пропагандистов, куда входили как синтоистские, так и буддийские священники, прошедшие обучение в Токио и в каждой префектуре, чтобы просвещать местное население относительно новой государственной доктрины, сочетавшей элементы синтоистской мифологии и конфуцианской этики с внушением необходимости быть патриотом, благодарным императору. Чтобы рассказывать простому народу о «цивилизации и просвещении», лекторы также касались таких тем, как налогообложение, армия и международные отношения. Пропагандистам было запрещено «проповедовать» или участвовать в «религиозных» мероприятиях, например проводить похороны или заговаривать болезни. Как можно догадаться, это движение не обрело популярности в народе, который собирался в местных святилищах для общего праздника, а не на скучные проповеди. Однако его деятельность продолжалась до 1885 года, когда эти функции взяла на себя начальная школа.
Параграф 28 конституции Мэйдзи, который гарантировал японцам свободу вероисповедания «в рамках, не наносящих ущерб миру и порядку и не противоречащих выполнению их гражданского долга», был тщательно сформулирован таким образом, чтобы защитить первенство нового государственного синтоизма,
при этом гарантируя возможность выбора веры — важный пункт для западных стран, которые страстно желали получить возможность проповедовать в Японии христианство. В рамках этой конституции выполнение синтоистских обрядов и прохождение синтоистского обучения было необходимой частью национальной этики, требуемой от всех жителей, а не просто «религией» как таковой.
Синтоистские группы, которые придерживались собственных учений и практик и не могли уместить свои верования в новую национальную идеологию синтоизма как гражданского долга, были помещены в отдельную категорию — синтоистских сект. Существовало 13 таких официально одобренных групп, которые весьма различались по верованиям и практикам: некоторые основывались на поклонении горам; другие ставили в центр ритуальное очищение, аскезу или лечение силой веры; некоторые совмещали буддийские и синтоистские идеи. В числе одобренных сект были также новые монотеистические религии: например, куродзумикё, конкокё и тэнрикё, которые появились в XIX веке в сельской местности. Некоторые из этих новых религий отрицали власть и легитимность государства Мэйдзи и растущий культ императора и мечтали об эгалитарном социокультурном порядке. Зачастую харизматические основатели этих взыскующих спасения групп завоевывали себе первоначальную репутацию как целители или одержимые божествами.
Накаяма Мики (1798–1887), основательница тэнрикё, прославилась своими способностями лечить оспу и облегчать боли роженицам. Считаясь сосудом и голосом Бога-Отца (Оягами-сама), она писала пророчества, проводила духовные практики, включавшие пение и танец, и поощряла благотворительность, ведя бедную и аскетичную жизнь. Тэнрикё часто выступала против законов и нарушала их, и Мики нередко попадала в тюрьму по различным поводам. Когда группа выросла до заметных размеров, государственные газеты клеймили ее как иррациональную и неортодоксальную. После смерти Мики ее сын реформировал ее учение, чтобы оно согласовалось с государственной позицией, и получил одобрение этой идеологии как тринадцатой и последней секты синтоизма . С тех пор любые новые группы, заявлявшие свое толкование синтоистских верований или практик, считались неортодоксальными и подлежали преследованию со стороны государства.
Одной из таких школ была «Оомото», основанная в 1892 году Дэгути Нао (1836–1918), необразованной крестьянкой. Нао выразила свое неудовольствие реформами Мэйдзи, описав рай на земле как место, где люди сами будут выращивать себе еду, а относительно остальных потребностей, например жилища и одежды, полагаться на природу. Денег не будет; никто не будет есть мясо; не будет шелка, табака, западной одежды, конфет и выпечки, азартных игр. Не нужно будет учиться, поскольку все будет простым и ясным для любого. Законы и полиция тоже не понадобятся, поскольку все будут честны и чисты духом. Этот утопический взгляд полностью отвергал вестернизированную урбанизированную капиталистическую модель, поддерживаемую правительством Мэйдзи. Учение приобрело национальные масштабы в 1920-х годах, когда его возглавил харизматический зять Нао, Дэгути Онисабуро (1871–1948) — одаренный спиритуалист, создававший ритуалы и практики на основе «древнего синтоизма».
Другим религиозным трендом периода Мэйдзи было распространение протестантизма среди японцев: многие полагали его фактором успеха западных стран. Протестантские миссионеры активизировались в международных портах в конце 1850-х годов. Многочисленные члены бывшего самурайского сословия, поддерживавшие режим Токугава и оттого чуждые режиму Мэйдзи, полагали, что христианство способно помочь им восстановить свой статус и построить будущее страны. Некоторые стали просветителями и открывали бесплатные колледжи. Среди процветающих христиан был Ниидзима Дзё, также известный под именем Джозефа Харди Ниидзимы (1843–1890), который учился в США и позднее открыл в Киото Университет Досися. Ниидзима считал, что христианство, вестернизация и цивилизация были неразрывной троицей, на которой стоит прогресс нации. Нитобэ Инадзо (1862–1933) крестился под влиянием Уильяма Кларка — иностранного специалиста и миссионера-мирянина, учредителя сельскохозяйственного колледжа Саппоро. Обучаясь в Америке, Нитобэ принял квакерскую веру и женился на американке из этой общины. Вернувшись в Японию, он занимал высшие государственные и преподавательские посты и был соучредителем Токийского христианского женского университета. Вероятно, лучше всего он известен благодаря книге «Бусидо: душа Японии» (Bushido — The Soul Of Japan, 1899), написанной по-английски в попытках объяснить традиционное японское поведение западной аудитории: «путь воина» он назвал источником национальных ценностей — чести, верности, искренности и самоконтроля.
Наконец, еще один обращенный Кларком по имени Утимура Кандзо (1861–1930) прославился тем, что, будучи учителем, в 1891 году на школьной церемонии поклонения портрету Мэйдзи отказался кланяться, и на основании этого акта неуважения его заставили подать в отставку. В дальнейшем он разочаровался в протестантизме из-за расизма, с которым столкнулся в среде западных христиан, и основал движение Не-церковь (Мукёкай) — местное учение, отстранившееся от профессионального клира и священнодействий в поисках настоящей христианской жизни. Утимура пишет в своем широко известном эссе «Два И» (1925):
«Я люблю два И, и третьего не будет: один — Иисус, а второй — Япония. Я не знаю, кого я люблю больше, — Иисуса или Японию. Мои соотечественники ненавидят меня из-за Христа как ясо [Иисуса, т. е. христианина], а иностранные миссионеры — из-за Японии, которая сконцентрирована на себе и узка… Я знаю, что одно придает сил другому; Иисус укрепляет и очищает мою любовь к Японии; Япония освещает и объективирует (sic!) мою любовь к Иисусу. Если бы я не любил их обоих, я стал бы по меньшей мере мечтателем, фанатиком, рядовым аморфным человеком».
Несмотря на подобных примечательных людей, христианству никогда не удавалось завоевать большую популярность в Японии: на протяжении периода Мэйдзи его последователями были не более 1% населения, и в дальнейшем эта цифра не увеличивалась.
Подведем итоги. Два столетия экономического роста стали угрожать строго зарегулированному социальному порядку, предписываемому сёгунатом. В 1853 году, когда Америка потребовала, чтобы Япония открыла границы для торговли и приняла исключительно невыгодные для себя торговые соглашения, вера в сёгунат была подорвана еще больше, постепенно приведя к восстановлению императорского правления. Небольшая группа олигархов монополизировала власть в новом правительстве Мэйдзи и начала проводить фундаментальные реформы в обществе и экономике, которые помогли бы Японии справиться с угрозами вторжений на свою территорию и с вызовами построения современного индустриального общества. Многие их инициативы, от приглашения иностранных консультантов до провозглашения конституции и созыва национального собрания, были направлены на то, чтобы доказать, что Япония — «цивилизованное» в западных понятиях государство. В городах многие приветствовали появление элементов западной материальной культуры — еды, одежды, архитектурных стилей; интеллектуалы и писатели также старались привить своим соотечественникам западные ценности. Однако лидеры Мэйдзи стремились построить весьма жесткое патриархальное общество патриотически настроенных граждан и издавали законы, направленные на ограничение индивидуальных прав, особенно женских.
Первые усилия по модернизации страны были предприняты из-за ощущения внешней угрозы, а также чувства неполноценности, вызванного социальными теориями XIХ века о расовых и цивилизационных иерархиях. В последующие десятилетия экономическое развитие и образование позволили сократить этот разрыв с империалистическими странами, который ощущался Японией. К 1920-м годам Токио и другие крупные города Японии были современными мегаполисами, равными по своим показателям городам других индустриальных стран, и следовали тем же глобальным тенденциям: развитию массового потребления, средств массовой информации и появлению политической философии социализма и коммунизма, угрожавших политическому режиму.
Из книги «Япония. История и культура: от самураев до манги» Нэнси Сталкер (Альпина Нон-фикшн, 2020). Перевод Ольги Воробьёвой.