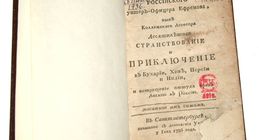Нищета и предпринимательство, дефицит и роскошь, бандитизм и демократия — с девяностых началась современная Россия, и мы будем помнить их ещё долго. В конце XX века страна стала открытой, пришла долгожданная свобода, появились независимые СМИ, благотворительные фонды, принципиально изменилась система денежных отношений, цвела андеграундная культура – от неонацизма до рэпа.
Об этом необустроенном времени и потерянном поколении «лихих» лет размышляет поэт Павел Кошелев в повести «Фрукты и фруктики». Филолог Вячеслав Немиров рассказывает, почему мы до сих пор скучаем по культуре 30-летней давности, кому поклоняются подростки из маленького города, и почему «Фрукты» антипедагогичны, но их всё равно нужно читать и молодым, и взрослым.
Это страшное слово «девяностые»
Эту статью вы, вероятнее всего, прочитаете уже в две тысячи двадцать первом году, в третьем десятилетии XXI века. Медленно, но от этого не менее верно, мы отдаляемся от рубежного во всех возможных смыслах этого слова периода. Мы всё дальше и дальше от девяностых.
Долгие и утомительные размышления о политических, культурных, социальных и любых других итогах и уроках этого времени — дело весьма неблагодарное, потому что автор всегда рискует в силу своей ограниченности и обширности темы чего-нибудь недосказать. Так будет и в этот раз. Правда, кое-что можно утверждать совершенно точно: девяностые стали универсальной мифологемой русской культуры. Нам никак не удаётся уйти от вечного ощущения, что вся наша нынешняя жизнь — это жизнь после. Помните, у древних народов, у греков, например, были представления о том, что до их железного века, были века золотые, серебряные? Рефлексия по поводу девяностых всегда упирается в подобное мифологическое восприятие смены парадигм, разве что это время мало у кого язык повернется назвать золотым или серебряным. Но люди тогда по-другому жили, в этом нет сомнения: и они сами были другими, и время по-другому текло, и боги тогда смеялись (очевидно, сквозь слёзы).
Время просто такое. Девяностые прошли, а продукты распада остались. И мы — хотим этого или нет — хаваем их огромными поварешками.
Павел Кошелев, «Фрукты и фруктики»
Одно пугает: попытки «жить после», патетические возгласы о том, что ещё чуть-чуть и страна скатится обратно в пучину подлинно русского ужаса, бессмысленного и беспощадного, превращение последнего десятилетия двадцатого века в безотказно работающую страшилку — не более чем попытка убедить себя в том, что девяностые закончились. Это не так. Хотите проверить? Поезжайте подальше, в мелкий городишко, задыхающийся в дыму заводов абсурдного назначения, туда, где цепями гремит призрак коммунизма, где в школах, чей номер едва ли переваливает за десятку, учились и учатся герои новой повести Павла Кошелева «Фрукты и фруктики».
О фруктах и людях
О чём повесть? Если вкратце и, как это теперь принято, без спойлеров (хотя бы вопиющих), то о жизни и взрослении мальчика Паши, более известного как Лупик, живущего в богом забытом городе. Кстати сказать, не у одного Лупика есть кличка — никто из героев книги не назван реальным именем. На страницах повести вы будете иметь дело не с Васями и Колями, а с Крюгером, Башкой, Током и прочими. Простые ребята, по-своему разные, но такие похожие, сливаются в одного обезличенного героя, судьбу которого знаешь наперёд.

Весь досуг паренька и его компании заключается в мелком воровстве и принятии психотропных веществ разной степени запрещенности: от алкоголя обыкновенного до газа и совершенно термоядерных смесей вроде «фруктиков». Действие повести начинается с их совместного употребления последних Лупиком и его товарищами. Наркотики вопреки ожиданиям не становятся центральной темой повести: не будет жуткого психодела (разве что, совсем немного), борьбы с зависимостью, смертей от передозировки и конфликтов с родителями. Читатель наблюдает за исканиями, надеждами, взрослением обыкновенного ребёнка, читая эдакий «роман воспитания». Запрещённые вещества, а если точнее, галлюциногенный опыт, обретает значение в концовке, ставя под сомнение многие вещи, реальность происходивших событий и линейность времени.
На протяжении повествования за всем незримо наблюдает всемогущий Бонг, самый крутой парень, законодатель мод, первый в драке, гениальный шоплифтер, человек и пароход. Бонг нигде и одновременно везде: на рынке, в магазинах, на заброшенных стройках и в «муравейнике», местном лабиринте минотавра и сикстинской капелле по совместительству — запутанном титаническом доме на тридцать подъездов. Бонг в головах. Почти все хотят быть на него похожими. Никто его, правда, не видел, но в его авторитетности сомнений нет и быть не может. Один из героев, главный радикал, Башка, задаётся вопросом: а есть ли Бонг? Ответ он получает вполне резонный ответ:
— Это тебя не существует! Ещё раз такое скажешь, и я в твоей голове ещё одну дырку проделаю и в**бу прямо в неё, понятно? Бонг существует. Иначе какой вообще смысл в этом всём?
Метафора очевидная, но работает превосходно. Глава, в которой герои рассуждают о природе Бонга и его месте в их жизнях, претендует на роль философского центра повести. Лупик, Башка и Чокопай забираются в одну из потайных каморок «муравейника». По словам одного из героев, комната эта способна исполнять желания. Не хотелось бы пересказывать содержание главы целиком, чтобы не портить вам удовольствие. Скажу одно: в желаниях героев сквозит вечное противостояние или, возможно, единство человекобога и богочеловека. Привет Федору Михайловичу! Одно слегка разочаровывает: Кошелев намечает мировоззренческие и ценностные конфликты, делает это мастерски, но, кажется, принципиально не стремится разрешать их в какую бы то ни было сторону. Хотя, наверное, в отсутствии всякой патетики, в отстраненным наблюдении тоже есть свое обаяние.
Время белая ночь
На мой взгляд, существует два главных текста о девяностых, и я не могу избежать сравнения новой повести с ними. Это «Время ночь» Людмилы Петрушевской и «Мультики» Михаила Елизарова. И «Фрукты…», и «Время ночь», и «Мультики» – это самая настоящая чернуха. В лучших традициях. Как «Груз 200», как документальные фильмы о беспризорниках и наркоманах, которые показывали в школах на классных часах. Это гипертрофированный натурализм, доведенный до стадии, когда правда-матка начинает резать глаза не хуже перцового баллончика.

Почему «Время ночь»? Потому, что это книга о чисто русском варианте безысходности: женщина изо всех сил старается прокормить внука, зная, что его всё равно заберет дочь-кукушка. История разворачивается на фоне нищеты и разрухи, когда приходится ходить по гостям в поисках обеда или хоть какой-нибудь еды, пускаясь на хитрость животного, движимого инстинктом сохранения своего потомства. Читать Петрушевскую подобно ампутации пальцев без анестезии — хочется выть. Некоторые сцены, особенно те, что касаются школы, у Кошелева выходят настолько правдивыми и в то же время абсурдными, что напоминают Кафку или Хармса. Я бы выделил два таких эпизода. Во-первых, всю девятую главу, в которой герой по кличке Чокопай срывает урок при помощи дедовского метода — отборной матерщины. Это невозможно читать без смеха. Во-вторых, увещевательная речь завуча и медработницы, произносимая перед толпой безразличных школьников. Речь прекрасна по своей точности, а при чтении хотелось крикнуть: «Верю!» За абсурдом происходящего стоит бытовой ужас. Ужас в духе Петрушевской.
Фруктовые мультики или мультяшные фруктики?
Влияние Елизарова чувствуется во всем. Не знаю, читал его Кошелев или нет. В обоих случаях получится занятно. Если читал, то «Фрукты…» — крайне последовательный диалог с Елизаровым. Если не читал, то это просто сенсационное совпадение, пение двух поколений в унисон, рефлексия о девяностых и постдевяностых, одна продолжающая и дополняющая другую.
Действие романа Елизарова происходит в крупном безымянном городе в разгар девяностых. Главный герой Герман Рымбаев, связывается с плохой компанией дворовой шпаны. Малолетние маргиналы пристают по ночам к одиноким прохожим, чтобы подзаработать. Схема следующая: к мужчине подходит девушка в шубе, распахивает ее, демонстрируя грудь, сразу после этого выходят друзья девушки и требуют платы за просмотр «мультиков». Впоследствии герой в результате милицейской облавы оказывается в загадочной детской комнате милиции, где его берётся перевоспитывать местный Макаренко — не менее загадочный Разум Аркадьевич. Перевоспитывать Рэмбо он планирует при помощи странных диафильмов, которые называет, как ни иронично, тоже «мультиками». «Мультики» — вещь гениальная. Представьте себе постмодернистский вариант «Педагогической поэмы», до боли напоминающий «Заводной апельсин». Гениально? Гениально. Так вот, если «Мультики» — постмодернистская «Педагогическая поэма», то «Фрукты…» – это, с позволения сказать, «Антипедагогическая поэма», из которой вы узнаете, что такое тэги и каким фломастером их лучше оставлять, какие баллончики краски называются «бомжами» и как же пишется «50 cent».

Если Рэмбо, главный герой романа Елизарова, посмотрев «мультики», обретает вполне конформный ориентир — университет, работу в школе, а его прошлая безбашенная жизнь кажется ему не более, чем сном, то Лупик, пропустив «фруктики» через себя, не обретает никакого ориентира; он просто осознает собственную непринадлежность этому миру безымянного города, стоящего на берегу безымянного моря, в тени безымянного завода.
Вообще, мотив дереализации, используемый Кошелевым и Елизаровым крайне интересен. Правда ли существует Разум Аркадьевич и его страшные мультики? Не пронеслись ли события судьбоносных для Лупика дней миражом сознания, плененного искусственным адом «фруктиков»? Действительно ли одна шестнадцатая часть суши лениво ворочается, увязнув в остановившемся времени, обрекая своих детей коротать бесконечность в психотропном чаду? Вопросы, на которые, пожалуй, никто ответа знать не хочет. Снова настигает ужас.
Вместо заключения
Повесть получилась насыщенной. В авторском слоге много поэзии: это неизбежно, когда за прозу берётся нетривиальный поэт. Всё становится понятно по чисто поэтическим метафорам и сравнениям, пронизывающим тело текста, задающим его ритм и мелодику. Не побоюсь сказать, некоторые фрагменты текста можно смело разбивать на строки и строфы — выйдут настоящие живые верлибры.
«Фрукты и фруктики» — ни секунды не стыдная попытка размышления на тему «метастаз девяностых» от человека новой формации, которому сейчас двадцать три. Очевидно, что нам нужно больше Кошелевых, нужно больше прозы для нас и о нас. Стоит ли читать? Определенно. Ровесникам Павла — чтобы узнать себя, ведь взгляд со стороны — штука полезная. Людям старше — чтобы понять и, возможно, простить поколение, выросшее под саундтрек в стиле рэп, пачкавшее гаражи и стены подъездов неумелыми граффити.
Кошелев не смог ответить на вопрос о месте поколения, чьё детство пришлось на не менее мифические, чем девяностые, сытые нулевые. Кошелев говорит лишь о тех, кто остался за бортом, о тех, кто беспросветно сгинул, навеки оставшись в альбомах с фотографиями малолетних преступников в замшелом отделе милиции. О месте самого молодого из присутствующих в культурном поле поколений не сказано ничего. Пока.
Все они здесь, в этой базе. Я листаю. Надеюсь найти среди них себя, но знаю, что не найду. Никогда не стану одним из них, но вечно буду на них похожим.
Павел Кошелев, «Фрукты и фруктики»