Совершая набеги на авторское право, проект «Метажурнал» составляет единую карту современной русской поэзии. Созданный в 2019 году поэтом и прозаиком Евгением Никитиным, сегодня «Метажурнал» разросся до широкой редколлегии и вышел за пределы телеграм-канала: литературный проект вручает поэтические премии, проводит онлайн- и офлайн-презентации, авторские вечера, лекции и стримы. Редакторы проекта считают, что концепт интеллектуальной собственности должен исчезнуть, а идеи — свободно жить и циркулировать, поэтому ежедневно отбирают лучшие поэтические произведения из российских книг, журналов и разрозненных интернет-ресурсов, сопровождая их аналитическими комментариями и формируя тем самым целостный критический контекст поэзии XXI века.
В беседе с издателем Владимиром Коркуновым об информационных пузырях, в которых живут современные авторы, и непонимании, царящем между поэтами разных поколений, координаторы «Метажурнала» критики и поэты Алексей Масалов и Максим Дрёмов рассказали «Дискурсу», как живёт и работает DIY-проект, почему русской поэзии не хватает критически мыслящих читателей, для чего проект стремится отражать кардинально противоположные точки зрения, как его команда создаёт новый тип мультиформатной горизонтальной институции, что позволяет редакторам уходить от клишированного мышления и какие традиции модернистского письма Серебряного века унаследовала сложная аналитическая поэзия нашего времени.
— Алексей, Максим, поздравляю с новой ролью в «Метажурнале». Как это произошло и что вы в связи с этим чувствуете?
Максим Дрёмов: Мы чувствуем в первую очередь ответственность, потому что в «Метажурнале» работает достаточно профессиональная и сплоченная команда, несмотря на её существенную разнородность. Но мы уже взялись за серьезное расширение проекта, за выработку новых форматов, в частности, онлайн-презентаций. Планируется еще одна серия мероприятий, связанная с «Метажурналом», — очный цикл обсуждений «Поэтическая функция». Поэтому мы хотим знамя «Метажурнала» поднять повыше и расширить проект настолько, насколько это будет в наших силах. У нас на это есть год.
Алексей Масалов: Да, я бы хотел немного уточнить, что должность координаторов существует вместо главного редактора, и эта должность — выборная. Т.е. редакция «Метажурнала» выбрала нас и ровно на год. Поэтому вполне возможно, что Евгений Никитин вернётся, или же мы уступим место координаторов другим коллегам из «Метажурнала», что во многом обнажает ту горизонтальность, которая заложена в технополитическую структуру «Метажурнала», и в данном случае поэтому и хотелось бы как-то развиваться и использовать имеющиеся инфраструктуру и ресурсы.
Максим: Мы пришли на уже очень хорошо разработанную почву. Проект существует почти два года, с 2019-го. Там опубликовано огромное количество текстов и комментариев к ним, а также существует премия «Метажурнала», два сезона которой прошли в 2020-м и 2021-м. И нам нужно держать марку, но мы надеемся, что её не просто удержим, а что коллеги, которые заступят на пост координаторов после нас, придут на почву, которая будет и нами каким-то образом дополнительно обогащена, например, новыми форматами.
— Вы взялись за это, потому что вам оказали доверие — либо вам по какой-то внутренней потребности, например, модернизировать старое и привнести новое?
Максим: Во-первых, просто не хочется, как я уже сказал, потерять то, что было нажито. У нас было достаточно много идей по поводу того, как можно развить формат. И так как мы хорошо общаемся и много работаем вместе в рамках разных проектов, мы решили взяться за это вдвоём. Я не думаю, что нам было оказано какое-то особое доверие по сравнению с другими коллегами. В конце концов, проект у нас горизонтальный, эгалитарный, просто обстоятельства сложились так, что заниматься координацией сейчас удобно нам, и другие коллеги тоже посчитали, что нам эта работа по плечу.
Алексей: Я в этом плане вполне солидарен с Максимом: это всё произошло по тем причинам, что Евгений Никитин захотел оставить пост главного редактора. И вся эта выборная система будет очень полезна, даже если не всё запланированное реализуется. Положа руку на сердце, мы взялись, потому что есть задача, которая сейчас практически по силам «Метажурналу». Когда я приехал в Москву, одним из первых мероприятий, на которое я попал, было обсуждение первого сезона премии «Поэзия», где я высказался о том, что эта премия является реализацией мечты нулевых — мечты о создании единой карты современной русскоязычной поэзии. И если премия «Поэзия» так или иначе включает в свой лист разные институции и стремится репрезентировать и разные конституциональные порядки, и разные картины мира, и даже разные представления о том, что такое поэзия, то и «Метажурнал», учитывая разнообразие редакционного состава, представляет собой вот такое специфичное образование, которое в других технологических координатах, кроме Телеграма, не могло бы существовать.
— Вернёмся к «Метажурналу» и завершим вопросы о нём. К чему сводится сейчас роль Евгения Никитина в проекте?
Максим: Евгений Никитин участвует в тех обсуждениях, которые поднимаются в редакторском чате «Метажурнала». То есть он нам передал право координации и регламентации генерального организационного курса, но он, как все другие редакторы, по-прежнему полноправно совещается со всеми нами, предлагает свои идеи и высказывается по поводу наших. Евгений оставил за собой право время от времени что-то вывешивать и комментировать.
Никуда Евгений не девался, он по-прежнему с нами. И я думаю, что мы его еще много раз увидим и услышим в рамках «Метажурнала».
Алексей: И что он еще вернется полноценно.
— Вы позиционируете «Метажурнал» именно как журнал, как некое издание, или, скорее, как паблик, в котором редакторы отбирают и комментируют лучшее из потока?
Максим: Прежде всего важно проговорить, что «Метажурнал» — ни в коем случае не паблик, потому что паблик — это всё-таки площадка, которая может оказывать влияние на читательские практики, но которая в нынешних медиа-условиях не позиционирует себя как узел этих самых практик, как регламентирующая, организующая институция внутри литературного процесса. То есть паблики имеют полное право на существование, у меня у самого есть паблик, в нём я каждый день публикую стихи, которые мне нравятся — он называется «стихотворение не реже раза в неделю», он есть во ВКонтакте и в Телеграме. Но «Метажурнал» выгодно отличается тем, что его ведут акторы актуального литературного процесса: поэты и поэтессы, редакторы и редакторки, критики и критикессы. Очень важный контент у нас — это комментарии, которые никакой обыкновенный паблик не предлагает. По крайней мере, когда речь идёт о современной поэзии. И многие комментарии, которые публикуются в «Метажурнале», несмотря на их экспресс-форму, являются полноценными критическими высказываниями. Поэтому «Метажурнал», несмотря на его специфический формат обитания в соцсетях, встраивания в логику быстрых коммуникаций, в которой мы находимся благодаря интернету, соцсетям и мессенджерам, по типу репрезентации материала ближе к журналу, нежели к пабликам, которых сейчас очень много.
Алексей: В разговоре с Павлом Арсеньевым, когда была дискуссия между «Метажурналом» и [Транслитом], мы обсуждали вопрос о специфике технологического бытования «Метажурнала». Дело в том, что включение «Метажурнала» в те или иные формы литературных коммуникаций, к которым мы привыкли (журналы, интернет-журналы и прочее), в современную информационную структуру через новые медиа, позволил на первых этапах создать особую форму технополитической организации. А уже в текущий момент стоит воспринимать «Метажурнал» как проект, который существует не вполне в рамках только телеграм-канала: у нас есть стримы, онлайн-презентации, планируются очные циклы обсуждений и творческих вечеров, а также существует ежегодная Премия «Метажурнала». И поэтому мне представляется, что такая надстройка над современным литературным полем является продуктивной для той работы, которую «Метажурнал» осуществляет.
Потому что после 2015–2018-го годов произошла череда скандалов, которые оптимизировали поэтическое сообщество, плюс сейчас все более разрастается литературный интернет, продолжается пандемия с её (само)изоляцией, что становится социокультурной причиной атомизации литературной среды, когда разные институции и сообщества могут существовать на разных планетах. Они существуют в разных инфраструктурных ситуациях, у них разные правила игры, разные способы включения в инфраструктуру новых действующих лиц, но при этом так или иначе всегда была и остается необходимость построения некоей общей картины того, что литература может показать обществу и каким образом она способна это показать. И в данный момент в силу того, что в «Метажурнале» ведут работу представители разных информационных пузырей, у нас получается такая своеобразная картина. Какая она выходит, мы ещё поглядим в течение этого года и на более длинной дистанции, но то, что сейчас уже очевидно: «Метажурнал» — это долгоиграющий и проект — не паблик, не журнал, а именно проект, это, мне кажется, очень важно.
— Важно, что ты проговорил это. Слово «проект» обесценивает многие инвективы в адрес «Метажурнала» (например, когда, скажем, редактор стороннего журнала отбирает тексты, работает с автором, составляет подборку, публикует её, а потом редактор «Метажурнала» приходит и забирает лучшее). Важно понимать его как проект…
Алексей: Ещё важный момент в том, что основной контент «Метажурнала» — это комментарий, который относится к текстам, уже вынесенным в публичное пространство. Эти тексты публикуются либо в социальных сетях, либо в каких-либо журналах, медиа и т. п. Но именно комментарий является основным контентом, на который может претендовать авторское право «Метажурнала», хотя я очень не люблю авторское право и как концепт, и как юридическое понятие. Иными словами, «Метажурнал» создает контекст. То есть в данном случае сами тексты остаются за их авторами и авторками, потому что при публикации у нас указываются автор и источник. Мы как в любой другой критической или научной публикации цитируем чужие тексты. Поэтический текст в «Метажурнале», как обсуждалось на круглом столе [Транслита] и «Метажурнала», является в нашем случае именно цитатой. Поэтому здесь нет никакого насильственного изъятия текста вопреки воле автора по той простой причине, что автор или авторка по собственному желанию уже выносит эти тексты в публичное пространство, а метажурнальный дискурс создает вокруг этого текста ту или иную интерпретацию.

Максим: Мне в принципе кажется, что ситуация, когда мы якобы отнимаем хлеб у других редакторов, во многом воображаемая, существующая в некоем вакууме, потому что я в «Метажурнале» уже достаточно давно, практически с самого начала, Алексей чуть позже пришёл, и я не припомню случая, когда хотя бы один редактор или автор предъявлял нам претензии по поводу того, что его текст был вывешен в «Метажурнале». Мне кажется, любому автору и редактору будет приятно дополнительное внимание к его тексту, тем более рецензии, публикуемые в «Метажурнале», — это в основном рецензии положительно заряженные, потому что в концепцию «Метажурнала» входит идея отбора текстов, которые редакторам и редакторкам представляются по тем или иным причинам наиболее интересными и важными.
— А при номинации, например, на премию «Поэзия» — как быть? Особенно, если текст уже был где-то опубликован до «Метажурнала», а номинирован им?
Алексей: Это снова издержки авторского права, которое в России, во-первых, очень странно работает, потому что у нас нет нормального закона об авторском праве и интеллектуальной собственности, а во-вторых, в принципе концепция авторского права как собственности меня не то чтобы устраивает. Я лично считаю, что знание должно быть доступным вне зависимости от материальных средств и прочего, прочего, прочего, поэтому некоторые постановки вопросов авторского права мне кажутся излишними. Как раз в недавней «Парадигме» прошел опрос на тему плагиата и авторского права, с некоторыми репликами из которого (в частности — Дмитрия Кузьмина и Александра Скидана) я по большей части согласился бы.
Максим: Могу только присоединиться.
— Да, там были высказывания, которые некоторым образом отменяют авторское право…
Алексей: Тут в тему можно вспомнить один очень интересный анекдот про Гаспарова, который он излагает в «Записях и выписках»: «Когда меня спрашивают „Где изложена ваша методика измерения точности перевода?“, я отвечаю: „В статье В. В. Настопкене в вильнюсском журнале ‘Literatura’, 1981"». Иными словами, получается, что если есть определенная идея, то выразить её зачастую компетентно может только либо сам автор, либо круг, которому он доверяет, как в этой ситуации у Гаспарова. И в данном случае важно, чтобы идея жила и свободно циркулировала, а не закреплялась какими-либо материально-техническими формами власти.
Максим: Абсолютно согласен! Я вообще жду, когда начнут в русской литературе появляться бутлеги — была такая практика, к примеру, в Англии XVI–XVII веков, когда появлялись пиратские издания Шекспира при жизни автора. Я, конечно, больше шучу сейчас, но, действительно, авторское право — это концепт, который в перспективе должен быть полностью разрушен. Да, здесь надо понимать, с кем идёт разговор, потому что тут сидят два левака — марксист и анархист. Соответственно, в этом вопросе у нас полный консенсус.
— Алексей говорил, что комментарии — самое важное в публикациях «Метажурнала». Они очень разные — есть филологические, есть предельно личные, есть сильные, есть слабее. Что вы планируете в этом направлении? Может быть, некую ротацию редакторов?
Алексей: Вот здесь я бы затронул вопрос по поводу уровня. Каким образом мы определяем компетенцию, профессионализм того или иного высказывания. То есть если мы собираем разные точки зрения, если работаем в институции, в которой существует равноправие разных картин мира, и если из оптики этой картины мира это высказывание является компетентным, то каким образом с точки зрения нашей картины мира, мы будем доказывать, что оно некомпетентное? Это определенная проблема. Решается она во многом за счет того, как мы относимся к конфликтам, в том числе к литературным конфликтам.
И если посмотреть на ту форму высказывания, которую задает «Метажурнал», то она эстетически может быть смутной, но с точки зрения информативности комментариев, которые она задает, всегда создает некое интерпретативное событие в своих специфических регистрах. То есть является тем или иным зазором в том информационном поле, которое у нас есть, в которое автор привносит свою интерпретацию определенного текста. И уровень профессионализма в данном случае — категория, которая нуждается, как мне кажется, в доработке в глобальном смысле, не только касательно «Метажурнала». Потому что мы находимся в ситуации дефицита критического высказывания. Я думаю, что разные критические высказывания должны являться легитимными только при условии рефлексии автором и авторкой собственной позиции и диспозиции.
Иногда некоторые высказывания могут казаться косноязычными или, наоборот, слишком упрощающими и редуцирующими. Но в целом разговор об уровне профессионализма, в том числе и в литературном пространстве назрел, так как существует ряд легитимных или окололегитимных стратегий, которые производят скорее обессмысливание, чем информативное и/или интерпретативное событие. Как ужасно затянутый цирк «Полета разборов» или прекраснодушные статьи Максима Алпатова, в которых незнание азов преподносится как адекватная аналитическая рамка. Но для этого нам нужно решить определенные проблемы, которые нам помогут подойти к этому разговору, то есть понять, что мы считаем профессиональным высказыванием, а что не считаем.
Максим: Мне кажется, что нынешняя команда «Метажурнала» и та критика, и те комментарии, что публикуются у нас сейчас, не вызывают серьезных вопросов относительно профессионализма.
— Согласен, и за разным уровнем диалога бывает очень интересно следить. Как минимум — не устаёшь от одного регистра высказывания…
Максим: Прелесть «Метажурнала» в том, что многие редакторы особо друг с другом не были знакомы до начала работы. Я пришел, что называется, по объявлению: в какой-то момент Никитин не захотел комментировать стихотворения единолично и написал в канал: «Кто считает себя компетентным в комментировании текстов, приходите, будете редакторами».
Первой пришла Динара Расулева, затем — Анна Русс; обе они уже не работают в «Метажурнале» по разным причинам. И, по-моему, третьим или четвертым пришел я. Кого-то Евгений приглашал целенаправленно. Но в целом большинство этих людей не были тесно связаны друг с другом. Вот мы с Алексеем близкие друзья, но мы начали плотно общаться сугубо после того, как стали коллегами по «Метажурналу». Также, например, Зоя Фалькова и Павел Банников, которые работают в паре, давно друг друга знают.
Но в целом преимущество «Метажурнала» не в том, что это какая-то единая группа, связанная эстетическими общностями или дружбой, а в том, что это команда профессионалов из разных сфер, разных сегментов поля.
— Хорошо, что мы это проговариваем. И приходим к большему пониманию внутренних процессов. А не было ли планов не просто отбирать лучшее, а привлекать авторов, приглашая их прислать тексты?
Максим: В основном мы, конечно, работаем с публикациями, которые действительно уже где-то появлялись, будь то журналы, книги, интернет-проекты, соцсети. Очень много публикуется из соцсетей. И у нас в истории было несколько случаев публикаций текстов, которые предоставлены для «Метажурнала» эксклюзивно.
Один раз я презентовал автора, который вообще не публиковался нигде, кроме соцсетей, — и то в пределах очень узкого дружеского круга. Я сделал небольшую подборку его стихов, сопроводил комментарием. Но мне не кажется, что это должно быть нашей основной магистральной линией, потому что…
— Не основной, просто возможной…
Максим: Это абсолютно возможная опция, но практика показывает, что авторов, о которых имеет смысл говорить, и которые при этом нигде не публикуются по каким-то причинам, на самом деле не так много. А о тех, которые есть, мы часто не имеем никакой возможности узнать.
— Условно, например, замечательный поэт Юрий Гудумак захотел опубликовать именно в «Метажурнале» стихотворение. Он же может вам его прислать?
Алексей: Этот вопрос обсуждался и в редакции «Метажурнала». У каждого из редакторов или редакторок есть пул авторов, которые могут им прислать тексты и попросить, чтобы они откомментировали это. Это вполне реальная практика для «Метажурнала», и она вполне рабочая. Людмила Казарян об этом говорила и еще несколько редакторов и редакторок. Так что, да, есть такая инструментальная возможность, чтобы автор представил что-то через «Метажурнал». Но насколько ему это будет интересно — это уже другой вопрос.
Максим: Предложений было пока не так много. Если они будут, мы готовы их рассмотреть. В теории мы можем отказать, но что до приведенного примера, то Юрий Гудумак — это очень интересный поэт. И едва ли мы ему откажем с любым текстом, потому что о любом из его текстов имеет смысл что-то такое содержательное, качественное написать — о его работе с географией, о метафизике ландшафта, пронизывающей и организующей его стихи.
— Имеет ли смысл в этом случае оставлять комментарий, что текст предоставлен автором?
Максим: Обычно это указывается. Когда у нас были эксклюзивные публикации, мы так и писали, что стихи предоставлены автором для «Метажурнала».
Алексей: Т.е. ссылка на источник есть всегда. Это и делает «Метажурнал» над-институциональной структурой, потому что в том или ином случае всегда указывается, откуда взята та или иная публикация.
— Поговорим и о том новом, что вы привносите. Прошли первые презентации под эгидой «Метажурнала»: книг Кати Сим, Фридриха Чернышева, Ольги Брагиной… Что ещё нового планируется у проекта?
Алексей: В ближайшем будущем планируются, конечно же, еще презентации такого формата. Мы хотели бы поработать с различными издательствами от «Русского Гулливера» до «Нового литературного обозрения». Еще один проект сейчас находится на стадии разработки и представляет из себя программу в аналитическом формате, где автор будет читать тексты…
Максим: А приглашенные спикеры и спикерки будут их комментировать, содержательно обсуждать. Это все будет представлено в формате профессионально смонтированного видео. Мы назвали этот цикл обсуждений «Поэтическая функция», целью которого является попытка понять, из чего складывается новейшая поэзия.
Алексей: Плюс выход в очный формат презентаций и творческих вечеров.
Максим: На съемках мероприятий предполагаются очно присутствующие зрители, которые будут наблюдать за процессом обсуждения в реальном времени. Мы планируем специально приглашать заинтересованных людей, компетентных читателей, которым было бы интересно это все послушать, принять участие в обсуждении, задать какие-то вопросы и получить на них ответы. Но в целом «Поэтическая функция» — это формат, который отчасти наследует нашим стримам, но предлагает и некоторое новое обрамление. Это все будет делаться в коллаборации с «Библиотекой Поэзии». Идею подобного проекта нам предложила Евгения Вежлян.
— Какова цель «Метажурнала»: выделить лучшее, создать общее литературное поле, создать контекст того, что пишется в данный момент, — или что-то еще?
Максим: Ну, все вышеназванное, безусловно. И, мне кажется, еще очень важный аспект — это создание некоторого нового типа институции. Потому что «Метажурнал» совмещает в себе и функции обзора происходящего в литературе по типу дайджеста, и бесконечно пополняющейся разноавторной критической колонки, и поэтического журнала, и площадки для презентаций, стримов и прочих культурных мероприятий. В общем, такая мультиформатная институция, которая, как мне кажется, в таком виде пока еще не существовала. И подобная структура в эпоху быстрых коммуникаций и соцсетей представляется очень важной.
Алексей: Я скажу, почему в свое время присоединился к «Метажурналу» и почему вместе с Максимом согласился координировать «Метажурнал». Потому что «Метажурнал» выполняет очень важную лично для меня функцию — составление карты.
Потому что мы живем в той ситуации, когда большая часть наших коммуникаций ведется вслепую. Для того чтобы упростить жизнь не только самим себе, но и потенциальным читателям современной поэзии, необходима карта, на которой они, грубо говоря, смогут отличать один поэтический «город» от другого, один информационный пузырь от другого, один тип поэтики от другого.
Тут мне кажется, что работа «Метажурнала» подводит ко все более и более назревающим разговорам о том, что такое инновативность и что такое консерватизм. Мне кажется, «Метажурналу» как-то удается так или иначе уйти от клише и пакетного мышления в рассмотрении этих модусов.
Вот несколько примеров типичного пакетного мышления. Первый пример: есть филолог, значит — у него нет сердца и он рассуждает только сухими логическими конструкциями. Или если есть левак, то значит — у него комсомол в голове. Точно так же мы можем сказать о консерваторе. Вот если кто-то пишет, используя античную метрику, то он реакционных взглядов.
И вот «Метажурнал» появился ровно в тот момент, когда возникла необходимость для пересмотра этих систем координат. Потому что у нас есть эстетики и поэтики, которые в общем смысле можно назвать консервативными. Это, к примеру, поэтики и эстетические взгляды Валерия Шубинского, Андрея Таврова и Игоря Вишневецкого, стихи которых я очень ценю при несогласии с их взглядами.
Но мне кажется, что построения литературного пространства, артикулированные в проектах 90-х, и создали ситуацию, когда у нас продуктивно развиваются поэтики, эксплицитно работающие с регистрами традиции, как, например, трансгрессивный классицизм Игоря Вишневецкого, как дословесная метафизика Андрея Таврова или как постсимволистский высокий модерн Валерия Шубинского.
Но в их консервативных модусах высказывания происходит тот или иной эстетический прогресс. То же «Виде́ние» Игоря Вишневецкого, прекрасная поэма, написанная терцинами, один из персонажей которой — поэт Василий Кондратьев, входивший в круг самых радикальных питерских авторов конца ХХ века. И, собственно, бо́льшую часть исследований по поэтике Василия Кондратьева пишет именно Игорь Вишневецкий.
С другой стороны, Андрей Тавров, который отчасти развивает открытия Алексея Парщикова. Конечно, Парщиков понят им, может, в более консервативном и чисто метафизическом ключе, но при этом же Тавров собирает особенный метафизический способ высказывания, характерный именно для 2021-го года, корреспондирующий и с совсем молодой инновативной поэзией, и с актуальной философской проблематикой. Кроме того, современно звучат стихи Валерия Шубинского, несмотря на то, что круг неподцензурных авторов, в который он входил, прочитывал «русский модернизм в консервативном ключе — как литературу традиционную, опирающуюся на определенные нормы и равняющуюся на ограниченный круг авторов», как пишет об этом Кирилл Корчагин.
Т.е. важно, что те тексты, которые создают эти трое авторов, не могли быть написаны ни в одну эпоху раньше и сообщают нам то, что не сообщал и не сообщает ничто, кроме них. И мне кажется, что это одна из тех технополитических функций «Метажурнала», которая помогает найти некие иные общие основания, потому что в данном случае мы учимся говорить друг с другом, даже если во многом не согласны. За счет этого мы начинаем лучше понимать разные эстетические «партии».
Максим: Но при этом, мне кажется, здесь важно сделать оговорку. Вся эта переоценка и переработка, пересборка способов говорения о поэтиках, которая действительно важна, и которая сейчас очень остро стоит, в том числе и благодаря поэзии самого молодого поколения авторов, к которому я принадлежу, которое совершенно по-новому подходит к этим категориям, — все это возможно только в том случае, когда мы проведем определенную черту и перестанем заниматься апологией авторов, которых по-хорошему надо бить ногами.
Алексей: Я понимаю, что ты имеешь в виду, это действительно важно и нужно. Но тот же Валерий Шубинский, который позиционирует себя как консерватора и сейчас начал издавать журнал «Кварта», ориентированный на традиции отечественного «высокого модернизма» XX века, репрезентирует тот консерватизм, с которым можно вести осмысленный диалог. Это консерватизм в той среде, в которой в целом возможен диалог. В которой традиция не превращена в клише.
И если мы вспомним тех авторов, в среде которых развивался сам Шубинский, к примеру, Олега Юрьева, то тот публиковался в «Воздухе» и участвовал в развитии контекста новейших поэтических практик, но при этом он был человек достаточно консервативных и правых политических взглядов. Однако Юрьев никогда не был в круге тех авторов, которые сейчас апологизируются как противники инновативной поэзии. Которые сами себя позиционируют как противники актуальной поэзии.
— Не чувствуете ли вы некоторого дефицита репрезентации этих направлений? Редакторы прямо скажем (и во многом это закономерно) не очень-то смотрят на консервативное крыло, с которым — как уже было сказано — тоже возможен диалог.
Максим: У каждого есть свой слот. В рамках этого слота каждый волен вести собственную политику селекции и комментирования того, что представляется ему наиболее важным. Кажется, дефицита нет, потому что те задачи, которые каждый сам для себя ставит, возможно реализовать в рамках своего слота. Каждый сообразно своим силам и возможностям ведет свою политику, т. е. у нас возникает такая идиоритмия между общей политикой «Метажурнала» и частной политикой каждого редактора и каждой редакторки. Например, Павел Банников считает своей миссией освещение русскоязычной поэзии Казахстана, это важно.
Алексей: И это выражается в тех текстах, что публикуются в течение двух недель, когда у нас меняются слоты.
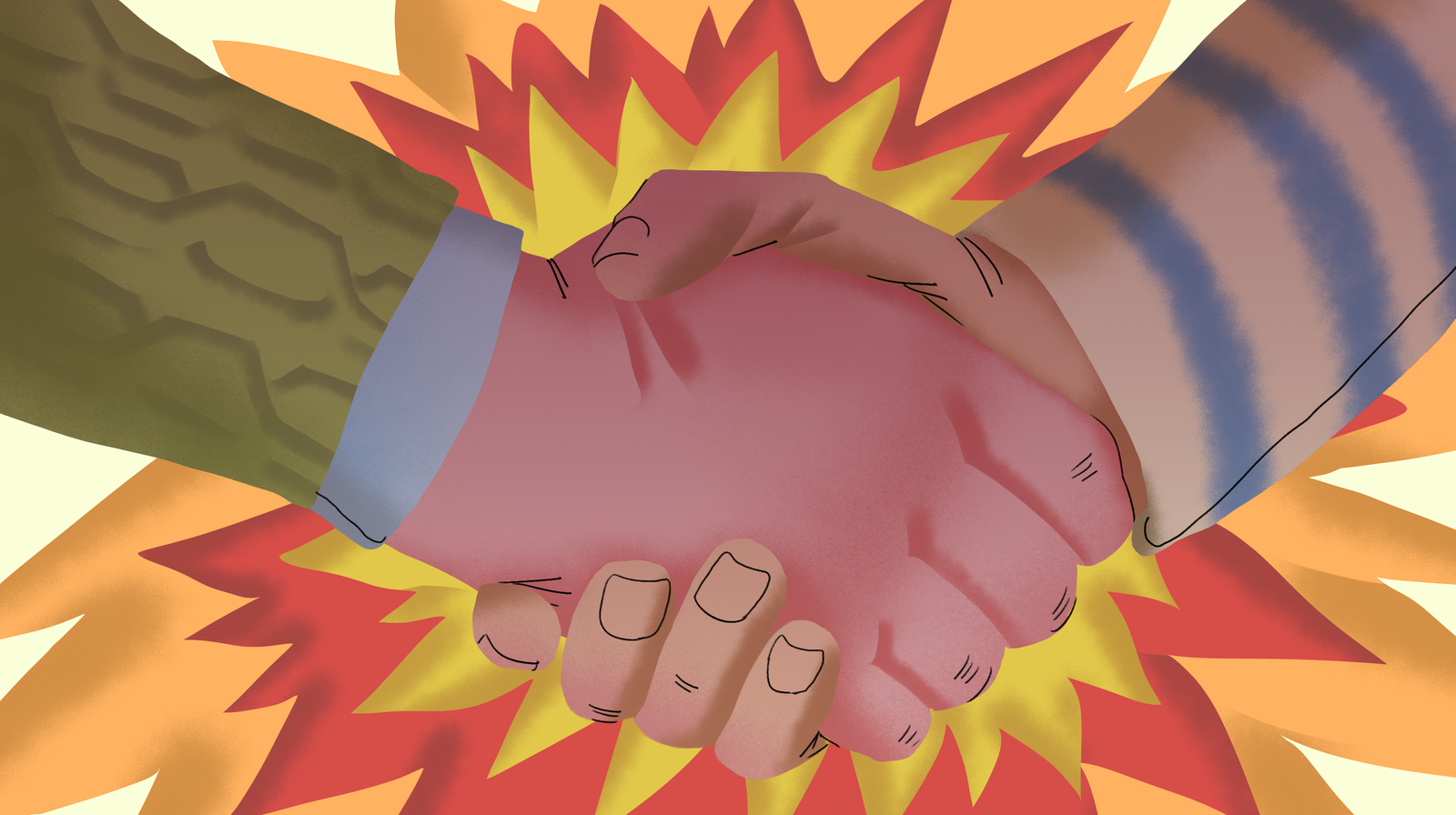
Максим: Конечно. И это замечательно, что Банников этим занимается. Что и мы, и подписчики «Метажурнала» благодаря нему узнаем о русскоязычной поэзии Казахстана. Соответственно каждый из нас видит своей целью освещение тех вещей, которые интересны ему. И это абсолютно нормально.
Алексей: Плюс круг Валерия Шубинского и журнала «Кварта» вполне публикуется Людмилой Казарян.
— Заметим ещё: смотря кого считать консерватором. Если считать консерваторами авторов «Дня литературы», то все консерваторы, о которых Алексей говорил, — авангардисты.
Алексей: Тот же Вишневецкий, насколько мне известно, готовит антологию английского модернизма 1930-х, об этом в предисловии к его «Собранию стихотворений» пишет Сергей Завьялов. А многие поэты этого периода (Уистен Хью Оден, Сесил Дэй-Льюис и т. д.) все же были социалистами. В этом плане отличным примером консервативных эстетик, но не вполне консервативных взглядов является неоклассицист Владислав Ходасевич, который ориентировался на поэтические формы начала XIX века, но приблизился к тем же открытиям русскоязычной поэзии, которые делали обэриуты. А с точки зрения своего политического самоопределения был человеком левых взглядов.
Максим: Зачем далеко ходить, если есть замечательный пример в лице уже упомянутого Сергея Завьялова, который реактуализирует, казалось бы, уж настолько архаичные вещи, насколько это вообще возможно. Но он при этом в рамках своей поэтики пересобирает их таким образом, что итоговый результат выглядит инновативней многой современной поэтической продукции. Он в целом занимается совершенно колоссальной работой по реактуализации античного наследия, в том числе его нетривиальных образцов. И делает это в рамках, во-первых, чрезвычайно новаторской по своему принципу поэтики, во-вторых, являясь при этом левым.
— Вернёмся от консерваторов и левых к редакторам. Они в «Метажурнале» регулярно меняются. Есть ли у вас шорт-лист редакторов на замену? Какой логикой вы пользуетесь для его составления?
Максим: Ни о каких заменах мы в краткосрочной перспективе не думаем. Но мы думали, что если у нас освободится один из слотов, то мы были бы рады видеть в редакции Юлию Подлубнову, потому что она может осветить широкий спектр проблем новейшей поэзии. Она, во-первых, может очень квалифицированно комментировать феминистскую, документальную и автофикциональную поэзию, что важно и нужно. Она может репрезентировать поэзию Урала, выделять среди этого массива авторов, о которых имеет смысл говорить. Потому что сейчас, по прошествии лет, мы понимаем, что так называемая Уральская поэтическая школа — это во многом мифология, но за которой стоит множество замечательных индивидуальностей. Но также много и всякого рода проходимцев, которые этой мифологией пользуются.
Но пока что, повторюсь, у нас полностью укомплектован состав. Свободных слотов нет. Если они вдруг по тем или иным причинам появятся, у нас идеи есть.
— Когда я ехал в метро на нашу встречу, прочитал комментарий Кузьмина к посту Ольги Балла. Она репостнула публикацию неизвестной мне Елены Севрюгиной. Кузьмин процитировал: «Метареализм, концептуализм, урбанизм, экспрессионизм — вот лишь неполный перечень современных литературных направлений», — и написал: «Где они берут таких смешных клоунов?»
Алексей: С Еленой Севрюгиной у меня был спор после одного из её высказываний, но она, видимо, не учла мои инвективы в сторону её позиций. В целом такой способ высказывания, такая апроприирующая традицию стратегия легитимирована безалаберностью Бориса Кутенкова, который не только занимается мифотворчеством и гальванизацией культуры, но и в бо́льшей части своих проектов распространяет модель незрелого авторства. Взять хотя бы затянутый «Полет разборов», в котором не менее шести критиков говорят об одном, часто не сформировавшемся авторе. Сама эта модель предполагает столько невозможного в современных условиях комплиментарного внимания, что после такого автор либо не сможет собрать индивидуальное высказывание, либо вообще забьет на развитие. При том, что участвующие в этом критики и критикессы своими именами легитимируют эту карусель застывшей незрелости.
А метареализм для меня — вообще больная тема, так как я пишу диссертацию об образном языке метареализма и стараюсь очень осторожно использовать это понятие, осознавая его некоторую сконструированность. Но в первую очередь, метареализм — это определенный круг авторов, которые были связаны некоторыми общими эстетическими взглядами и способами поэтического говорения. Кажется, что лучше всего об этом пишет Владимир Аристов в «Заметках о „мета“».
Мне видится важным, что тот способ высказывания, который мы сейчас называем метареализмом, — это не вполне направление. Это способ высказывания, отношения к языку и феноменологии связей между деталями мира. При этом метареализм — это определенный терминологический конструкт, придуманный Эпштейном. Просто он оказался удобен и самим авторам, поэтому термин и прижился.
Но в этом и заключается проблема. Например, в том, что «линия Драгомощенко», которая сейчас к метареализму имеет очень косвенное отношение, долго до начала 2020-х и появления молодых онтологических поэтик была чуть ли не единственным наследием метареализма, хотя тут важно помнить про уральский метареализм с его специфической «поэтикой трансформаций» и самарских авторов Александра Уланова и Галину Ермошину, чьи поиски двигались примерно в том же русле на десятилетие раньше Премии Драгомощенко.
А если говорить о линии Драгомощенко, то, как представляется, этими авторами была воспринята «лингвистическая мистика» АТД, но понятая уже и через «Красное смещение» Александра Скидана, и через ревизованное катастрофами письмо Станислава Львовского.
— Скидан в некотором смысле последователь Драгомощенко.
Алексей: Скидан считается первым «учеником» Драгомощенко. Тут разные точки зрения есть, но, как говорит Сергей Завьялов, все «ученики» Драгомощенко на него не похожи. В этом плане мы можем говорить о трех авторах: Василий Кондратьев, уже упоминавшийся, Александр Скидан и Шамшад Абдуллаев. Ну и в том числе, но менее, Хамдам Закиров. Но я не люблю дискурс «учитель-ученик», но при этом это как раз и есть наследие метареализма в его первой генерации, о котором имеет смысл говорить, и о котором, кстати, скоро выйдет моя статья, основанная на материале лекции, которую я читал в Самаре на крутейшем мини-фесте «Поэтическая логоцентрика» весной 2021 года.
Линия Драгомощенко — это то, что связано с метареализмом до дебютов, начавшихся с 2017 года. В этих различных дебютах от Александра Фролова до Максима Дремова и Кати Сим. Это, как кажется, уже немного иной генезис, то есть это уже после линии Драгомощенко, но некоторая пересборка, отсылающая не только к языковой аналитике, которая присутствовала у Драгомощенко и которая была активно развита Скиданом. А отсылка к высокому модерну (от Бодлера до сюрреалистов), но к другому варианту, нежели высокий модерн Шубинского.
Я имею в виду, что в 80-е и 90-е, как кажется, было как минимум два варианта продолжения модернистской поэтики. Это петербургские неоклассики — «Камера хранения», Олег Юрьев и т. д. И то, что делали авторы, которых мы причисляем к метареалистам и их наследию. Это было двумя общими (помимо частных) тенденциями прогрессивного осмысления модернистского письма от Серебряного века до кодов мирового модерна (Рильке, Целан и т. п.)
— Ты, помимо прочего, ответил ещё и, например, Евгению Абдуллаеву, который говорил о Драгомощенко как о тупиковой ветке развития поэзии. Ты будто проложил железнодорожные пути через него в наше настоящее…
Алексей: Да, сложная аналитическая поэзия. То есть то, что связывают с именем Драгомощенко, если говорить о нем, но это же абсолютно разные и очень интересные поэтики.
Максим: Ну, с его именем в последние годы принято связывать практически любую поэтику, которая считается осмысленной.
Алексей: Я имею в виду наследующие той форме герметичной поэзии, которую создал Драгомощенко. Если мы возьмем Евгению Суслову и Кирилла Корчагина. Это же почти полярные авторы, хотя близкие по осмыслению политического и телесного. Или аффективность Дениса Ларионова и феноменологию Никиты Сафонова. Или когнитивное письмо Анны Родионовой. И это уже, получается, разные ветви. То есть то, что мы называем метареализмом, породило абсолютно разные поэтики.
Иллюстрации к интервью нарисовала Анастасия Бурдина, Дискурс












