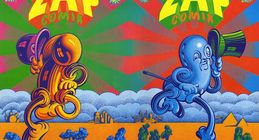В этот день 62 года назад впервые в прямой эфир вышел «Голубой огонек». Программа, изначально не задумывавшаяся как новогодняя, стала одним из символов оттепели: в отличие от кремлевских передач с согласованной повесткой, «Голубой огонек» был молодежным шоу без сценария и предварительной записи эфира. Советские граждане в нем представали как неиерархическое, пестрое, интернациональное сообщество.
Вскоре передача попала под давление сверху — в нее требовали включить более традиционных советских героев, например образцовых рабочих и военных. В выпусках стали появляться ветераны ВОВ, а на новогоднем эфире 1963-го праздничный тост произнес Юрий Гагарин. Оригинальный «Огонек» закрыли его создатели, и с тех пор передача стала выходить только в новогоднюю ночь.
О том, как изначально выглядела программа, превратившаяся в главное праздничное телешоу Кремля, рассказывает историк Кристин Эванс в книге «Между „Правдой“ и „Временем“», где анализирует новаторские решения советского Центрального телевидения.
Как «Голубой огонек» стал праздничной программой
Впервые вышедшая в эфир в апреле 1962 года программа «Голубой огонек» была эстрадным шоу, сформированным под влиянием новых стилей социального поведения и обстановки оттепели. Создатели программы — команда редакторов и режиссеров из отдела эстрады редакции музыкальных программ Центрального телевидения — взяли за основу кафе «Молодежное», открывшееся в 1961 году на улице Горького в Москве.
Это кафе быстро стало популярным местом сбора образованной и свободомыслящей молодежи, которую привлекали выступления поэтов и музыкантов. Сочетая новую обстановку кафе с юмором и музыкальными традициями российской эстрады, «Голубой огонек» собирал актеров, музыкантов, поэтов, телевизионщиков, иностранных знаменитостей, космонавтов и представителей национальных республик за столиками кафе, уставленными чаем, фруктами и другими угощениями.
В соответствии с принципами оттепельного телевидения сценарий у программы был минимальный.
Картина советского общества, представленная в «Голубом огоньке», сильно отличалась от той, что отражалась в праздничных парадах на Красной площади.
В «Голубом огоньке» советские люди представали как относительно неиерархическое, добровольное, пестрое, интернациональное и основанное на дружбе сообщество с возрожденной интеллигенцией в самом центре.
Передача позволяла увидеть и услышать новых людей и вообще то новое, что открыла для советских зрителей культурная оттепель. Как и другие премьерные телепрограммы начала 1960-х, «Голубой огонек» был призван дать зрителям общение с новыми образцами социалистического человека и опыт виртуального путешествия — не только в московское молодежное кафе как альтернативный центр, но и по всему Советскому Союзу и миру.
Попытка объединить в «Голубом огоньке» неортодоксальную, праздничную модель советской политической жизни с еженедельным развлекательным шоу быстро столкнулась с препятствиями. Программа сразу же попала под давление сверху, состоявшее в требовании включить в нее более традиционных советских героев — образцовых рабочих и военных, присутствие которых не всегда выглядело таким спонтанным и дружеским, как того требовал формат передачи.
Уже в 1963 году, спустя всего год после ее первого выпуска, Центральное телевидение стало получать жалобы — и в письмах, и в начатых им социологических опросах аудитории, — что передача утратила первоначальное очарование.
«Что касается телепередач „На огонек“, то они за редким исключением не соответствуют своему названию: ни интереса, ни живости, ни тепла, — писал на бланке опроса Центрального телевидения некий сотрудник Министерства торговли. — Пространные беседы о производственных достижениях... скучные, длинные различного рода обозрения... Хотелось бы больше слышать в этих передачах хорошей музыки, новых песен, остроумия...» В то же время ориентация программы на юмор и легкие музыкальные жанры делала ее неудобной для прямых политических посланий.

В 1967 году Сергей Муратов, сотрудник Центрального телевидения, ставший известным телевизионным критиком и исследователем, резко осудил включение в одну из обычных воскресных трансляций «Голубого огонька» знаменитого диктора военного времени Юрия Левитана. Левитан читал сводки Совинформбюро, относящиеся к годам войны.
«Это были суровые слова, — признавал Муратов, — и звучали они торжественно».
Но в салонном окружении столиков, улыбающихся девиц с немыслимыми прическами и в сопровождении жиденько-вежливых аплодисментов это выглядело пошло. Было попросту стыдно.
А ведь, очевидно, у организаторов передачи прицел был иной: «Даже развлекательная передача — „Огонек“ — не будет у нас бездумной, сделаем ее направленной, политически заостренной. Пусть Левитан прочитает сводки». Но «Голубой огонек» — «Голубой огонек», и круглый столик не стол президиума.
Удовлетворять на еженедельной основе запрос аудитории на юмор и легкие юмористические жанры было невозможно и по другим причинам. Заполучить популярных исполнителей было непросто, а Центральное телевидение с его массовой аудиторией подчинялось гораздо более строгим стандартам вкуса, чем другие СМИ и площадки. Как сказал в 1962 году глава редакции музыкальных программ В. Меркулов, с энтузиазмом поддержавший идею создания «Голубого огонька», «задачи коммунистов музыкальной редакции и их ответственность особенно велики и сложны в условиях, когда дурной вкус проникает к нам через буржуазные фильмы, пластинки и часто весьма невзыскательным „музыкальным обслуживанием“ парков, катков и поездов...».
Все эти проблемы были обобщены в письме 1965 года, в котором некий зритель жаловался: «Миллионы людей ждут передачи „На огонек“, часто отказывая себе в том, чтобы пойти в театр, кино... К владельцам телевизоров в субботу приходят близкие, знакомые. ...от выпуска к выпуску, за исключением „парадных“ (курсив мой. — К.Э.), вы не улучшаете своей работы и не доставляете нам большой радости, которую обязаны доставлять». В том же, 1965-м, году редакторы и режиссеры «Голубого огонька» решили прекратить его выпуск, поскольку, по их мнению, он утратил свой первоначальный дух и устарел.
Однако из-за успеха и сохраняющейся политической значимости его праздничных эфиров, которые, как следует из приведенного письма телезрителя, были исключением из правила, «Голубой огонек» закрыт не был. Отказ его закрыть исходил непосредственно от Николая Месяцева. Первый довод состоял в том, что передача была слишком популярна: и действительно, даже несмотря на все жалобы, «Голубой огонек» был одной из самых успешных передач Центрального телевидения. Особенно это касалось праздничных выпусков, на которые всегда выделялось больше времени, сил и денег. Месяцев напомнил ответственным за составление музыкальной программы сотрудникам о высокой значимости этой передачи.
По его словам, зрители оценивали праздничную сетку Центрального телевидения по двум вещам: по трансляции парада с Красной площади в прямом эфире, что было значительным техническим достижением, и по качеству показанного тем же вечером «Голубого огонька». В 1965 году «Голубой огонек» перестал быть регулярной программой и с тех пор выходил лишь время от времени, не считая праздничных дней. К 1969 году он уже был исключительно праздничным шоу.
Превращение «Голубого огонька» в специальную праздничную передачу, как и общая практика трансляции наиболее популярных развлекательных передач в праздничные дни, было способом смягчить напряженность, лежащую в основе советской телеиндустрии.
Как и в других сферах советского экономического и культурного производства, праздники давали Центральному телевидению возможность создать ощущение щедрости в условиях ограниченности ресурсов. Они были сосредоточиями творческих и материально-технических усилий сотрудников, ответственных за музыкальную программу.
Кроме того, музыкально-эстрадное шоу, подобное «Голубому огоньку», служило советскому государству отличным способом отмечать праздники на телевидении. Популярная музыка на сцене — очень эффективный и политически гибкий способ привлечь всю советскую аудиторию.
Состав звезд можно было корректировать, чтобы отразить конкретные политические послания; например, в пятидесятую годовщину 1917 года — желание, чтобы к празднованию революции присоединились все советские люди, независимо от национальности.
В «Голубом огоньке» от 7 ноября 1967 года выступали известные русские, украинские, эстонские, литовские, армянские и узбекские вокалисты, которые пели на русском, но также и на своих родных языках, в основном на патриотические темы; звучала в той передаче и более легкая музыка, включая легкомысленную французскую песню «Девушки моей страны» в исполнении узбекского певца Батыра Закирова.
Между тем политика привязки самых популярных программ Центрального телевидения к праздничному календарю порождала новые проблемы. Праздники давали хороший способ структурировать взаимоотношения телеаудитории и цензоров, гарантируя, что даже самые аполитичные развлечения сохранят ясную связь с государственными мифами. Но они также повышали ставки в этом взаимодействии, ограничивая его определенным количеством случаев в году.
Это взаимодействие приобрело большое значение в 1960-х, когда возросла озабоченность по поводу влияния иностранного радиовещания. Зрителей поощряли в написании писем — как для демонстрации того, что государство реагирует на запросы зрителей, так и для вовлечения их в диалог о вопросах вкуса, которые одновременно были вопросами политики холодной войны.

Повышению ставок в этих «переговорах» способствовали и определенные идеи о природе телевидения как медиума. Программа была основана на идее, что телевидение — это мощное средство для продвижения совершенных образов советских людей: телекамера позволит зрителям проникнуть за внешнюю оболочку и увидеть истинную сущность человека на экране, что и позволит им установить глубокую связь с образцовыми людьми. Оборотной стороной этого убеждения было то, что изображаемые люди должны быть политически приемлемыми, а также выглядеть привлекательно вблизи.
Вот только решить, какие музыкальные стили и какая внешность приемлемы, было все сложнее, особенно в случае с иностранными исполнителями. В то же время оттепель дала волю в выражении противоположных точек зрения — и интеллигенции, и общественности, и самому государственному и партийному аппарату. В результате состав артистов в праздничных программах советского телевидения определялся в последнюю минуту; редакторы собирались незадолго до праздника, просматривали записанные выступления и вырезали те, которые считали неуместными, или добавляли те, которые, по их мнению, должны были быть добавлены.
Цензура, как ни парадоксально, могла порождать непредсказуемость. Даже после прекращения прямых трансляций праздничных концертов в середине 1960-х годов их трансляции в записи могли быть совершенно непрогнозируемыми.
Значимость этого небольшого набора праздничных телепередач как площадки для «переговоров» с телеаудиторией повышалась еще и тем обстоятельством, что в самом праздничном календаре уже имелся центральный повод для символического обмена между государством и народом — Новый год. Этот единственный советский праздник, не связанный ни с 1917-м, ни с 1945 годом, был одновременно и наиболее семейным, домашним праздником. Телевидение, как и радио, играло ключевую роль в праздновании Нового года просто потому, что людям нужен был телевизор или радиоприемник, чтобы узнать, когда наступит полночь.
С начала 1960-х, а окончательно — к 1968-му Новый год стал в телевизионном календаре важнейшим праздником. В новогодний сезон завершались циклы телепрограмм, и именно тогда транслировались самые дорогостоящие программы, концерты и телефильмы. Празднование Нового года, включая новогодний «Голубой огонек», а после 1971 года — и новогоднюю «Песню года», превратилось, таким образом, в главную площадку советского телевидения для репрезентации соотношения между запросами аудитории и развлекательным контентом, который оно ей предлагало.
Обмен подарками на новогоднем «Голубом огоньке» 1960-х годов
В новогодних трансляциях «Голубого огонька» 1960-х годов столики кафе были расставлены вокруг новогодней елки, гости бросали серпантин, а их волосы были усыпаны конфетти. Действие программы было сосредоточено на обмене новогодними тостами и пожеланиями между гостями кафе и на поздравлении находящихся у себя дома зрителей, собравшихся за праздничными столами, зеркально отражающими столики кафе.

Эта связь сделалась очевидной с конца 1960-х годов, когда в программу стали включаться «визиты» домой к знаменитым труженикам и артистам, которых показывали в кругу семьи за накрытым праздничным столом. Гостями в кафе были завсегдатаи сталинского дискурса подношений: отважные путешественники (теперь это были космонавты), женщины, представители нерусских советских национальностей, а в самом центре — довольно сильно перепредставленная художественная интеллигенция. Были в программе и веселые перевоплощения, и другие карнавальные фокусы, но в целом она состояла из юмора и музыки — спонтанных или же в ответ на любезное приглашение ведущих.
Такой способ презентации вечерних развлечений напоминал неявный обмен подарками — прием удачный, поскольку человек не может выбирать, какие подарки получит, и притом естественный для новогоднего праздника. Часто это делалось очень просто: либо с указанием, что исполнитель сам выбрал песню, либо вовсе без упоминания о каком-то процессе выбора (например, диктор-ведущий просто объявлял название номера).
Начиная с новогоднего эфира 1963 года понимание песен как подарков стало уже использоваться открыто. В 1963 году эта концепция была представлена в конце второй, послеполуночной половины программы, в сценке юмористов Льва Мирова и Марка Новицкого. Мирову и Новицкому не терпится открыть «подарки» под елкой в студии, и вот они обнаруживают, что это два записанных на пленку выступления, одно — артиста из ГДР, другое — юного украинского певца Бориса Сандуленко, поющего на итальянском «’O Sole Mio».
Заключительный акт того шоу был посвящен решению вопроса о том, можно ли достойно ответить на эти «подарки»: по окончании выступлений Миров выразил опасение, что ему и Новицкому нечего дать взамен. О благополучном завершении символической сделки позаботился ведущий, сообщивший, что Центральное телевидение уже подготовило подарок — тост от советских космонавтов за советский народ и «наших зарубежных друзей».
В новогоднем «Голубом огоньке» 1967/68 года прием дарения подарков был использован для обоснования уже гораздо большей части программы. В том году она транслировалась из «Седьмого неба» — ресторана на вершине недавно построенной Останкинской телебашни. Во вступительном анимационном ролике было показано, что башня превратилась в новогоднюю елку, и возникла проблема: как ее украсить? В типичной для этой программы серии перевертышей ролей один из гостей, настоящий советский летчик в полном обмундировании, собрал группу актеров, сыгравших в недавних фильмах летчиков, для проведения военной операции по украшению «елки».
Каждый актер вставал из-за стола и посредством монтажного спецэффекта превращался (вжух!) в своего героя-военного.
После того как вопрос с украшениями был решен, пилоты должны были развесить подарки, и веселье продолжалось по мере того, как они принимали подарки от прибывших издалека гостей (включая трех хоккеистов, которые побывали в Польше и привезли «подарок» от польской певицы Ирэны Сантор под названием «Как много девушек хороших»).
В передаче также неоднократно упоминался «подарок» московских строителей — строительство новой телебашни, самой высокой в мире. «Пилоты» напрямую доставляли подарки представительным гражданам, сидящим перед телевизорами у себя дома, в данном случае — азербайджанской паре, отмечающей платиновую годовщину свадьбы; супругов кратко показали в их доме.
Но все же механизм дарения подарков не всегда казался достаточным обоснованием того, что в «Голубом огоньке» участвуют одни исполнители, а не другие. Особенно это относится к самым ранним выпускам. В первом новогоднем «Голубом огоньке» (1962) в эфире использовали лотерейный барабан, который «определял», какие из выступлений прошлого года будут ретранслироваться тем вечером. Позже ведущие открыли контактный центр, принимавший заявки зрителей, — наполовину в шутку (телефонистки тоже пели и танцевали), а наполовину, видимо, всерьез, поскольку в эти первые годы Центральное телевидение привыкло получать немедленные отклики зрителей по телефону.
В 1963 году Миров и Новицкий разыграли в начале передачи сценку, притворившись, будто определяют состав программы с помощью гигантского робота с кнопками на корпусе, соотнесенными с разными жанрами и исполнителями. Миров и Новицкий вставили десять копеек, нажали на кнопку «Акробаты», и из распахнувшейся груди робота вышла акробатическая труппа.
Разумеется, введя в свою телепередачу центр приема телефонных звонков, ее создатели не уступили редакционного контроля зрителям, равно как и использование лотерейного автомата или гигантского робота не означало, что решения принимались случайно или автоматически. Но характерным для нового акцента на отзывчивости было то, что Центральное телевидение ощутило необходимость показать, что оно принимает заявки (силами контактного центра) или что полномочия по принятию решений переданы «нейтральной» инстанции (такой, например, как слепой случай).
Появление «Голубого огонька» в 1965–1967 годах как скромной, гибкой формы телевизионного празднования, основанного на обмене подарками, было омрачено событиями конца 1967-го — 1970 года. В 1967/68 году «Голубой огонек», транслировавшийся с вершины Останкинской башни и сопровождавшийся масштабными спецэффектами, был задуман как празднование открытия нового телецентра, приуроченное к торжествам по случаю пятидесятой годовщины Октябрьской революции.

Этот момент триумфального превращения Центрального телевидения в подлинно всесоюзную телевизионную службу с центром в Москве пришелся на то время, когда интеллигенция СССР и Чехословакии была охвачена социалистическим реформизмом.
Вскоре, в августе 1968 года, советские войска вторглись в Чехословакию, подавив реформаторское движение «Пражская весна», ключевые роли в котором играли сотрудники национального телевидения. В следующие два года, с осени 1968-го по весну 1970-го, на Центральном телевидении в Москве серьезно «закрутили гайки», в результате чего Николай Месяцев был смещен с поста председателя Гостелерадио и на его место назначен Сергей Лапин, близкий соратник консервативного идеолога Политбюро Михаила Суслова.
В эти годы триумфа и кризиса руководством Центрального телевидения и Центральным комитетом было рассмотрено и отвергнуто очень амбициозное, политизированное видение телевизионного празднования, в котором телевидение вытеснило бы местные партийные организации и заняло главенствующую роль в проведении советских празднеств.
К этому решению привело поступившее в августе 1967 года в Отдел пропаганды и агитации ЦК предложение председателя Гостелерадио Николая Месяцева о создании нового всенародного телевизионного ритуала, который должен был быть запущен к пятидесятой годовщине Октябрьской революции.
Планы были поистине грандиозными. За несколько недель до торжественной даты Центральное телевидение должно было показывать специальные программы, инструктирующие советские семьи о тщательной подготовке, которую должен был провести каждый член семьи.
Мужчины должны были создать в своем городе места для «ленинских костров», женщины — раздобыть особые рецепты угощений, девочки — приготовить небольшие подарки, а мальчики — привести в порядок исторические места, связанные с революцией. Свои действия члены семьи должны были держать в тайне друг от друга, применяя секретные коды, также предоставленные Центральным телевидением.
Наконец в день праздника каждый должен был исполнить свою роль в соответствии с подсказкой телевизора, после чего праздничная передача достигала кульминации с появлением на экране самого Брежнева, который должен был обратиться к гражданам и призвать их встать и выйти на улицу. В этот самый момент программа должна была переключиться на радиотрансляционные вышки на улицах, и все исторические места, подготовленные мужчинами и мальчиками, должны были внезапно воссиять.
Предложение Месяцева отличалось неправдоподобным сочетанием самых дорогостоящих элементов французского зрелища son et lumière, амбициозного видения возможностей телевидения как средства прямого социального контроля и, наконец, удивительной амбивалентности в отношении той роли, какую телевидение может или должно играть в переделке советских праздничных ритуалов в постсталинскую эпоху, — того самого амбивалентного отношения к телевидению, которое было отвергнуто в отношении праймтаймовой сетки Первого канала.
В конце концов, центральным моментом ритуала был призыв встать, выключить телевизор и выйти на улицу. Если же смотреть с более практической точки зрения, то новый ритуал содержал в себе почти безграничные возможности для ошеломительного провала.
Он был резко отвергнут в письме Павла Московского, главы Отдела пропаганды ЦК, и его заместителя Александра Яковлева (впоследствии близкого соратника Горбачева и высокопоставленного чиновника, отвечавшего за СМИ и пропаганду во время перестройки), заметивших, что едва ли целесообразно «регламентировать поведение советских людей призывом выходить на улицу, снимать головные уборы, обмениваться хлебом-солью и т.д.», тем более что в этот момент — в 10 часов вечера по московскому времени — «уже будут проходить народные гуляния на площадях и в парках».
Местные партийные организации уже составили планы народных гуляний «с учетом национальных особенностей и местных условий». Хотя предложенный Месяцевым телевизионный ритуал и вписывался в характерные для того периода усилия по изобретению новых, советских традиций и обрядов для более эффективной конкуренции с религией и церковью, но он все же шел вразрез с тем, что работники телевидения и критики считали особыми достоинствами телевидения: с его интимностью и способностью убеждать и влиять, не прибегая к прямым политическим посланиям (или, как в данном случае, приказам).
Гибкое же праздничное эстрадное шоу, напротив, могло приспособиться к любой политической буре. Для новогоднего «Голубого огонька» самым заметным изменением между 1967 и 1968 годами стало исчезновение зарубежных музыкантов, которых было необычайно много в выпуске 1967 года.
Тогда послеполуночный сегмент передачи был посвящен почти исключительно исполнителям из Восточной Европы и включал в себя две песни на французском языке — в исполнении любимой в Советском Союзе Мирей Матьё; в 1968 году иностранных исполнителей уже не было, а в общесоветском репертуаре появилась русская национальная тема: вступительный номер под названием «Голос Родины, голос России» и выступления двух костюмированных ансамблей русских народных песни и танца.
Эти изменения отражали более общее переопределение понятия «массовые жанры» с учетом вкусов пожилой, провинциальной аудитории, которую Центральное телевидение охватило к концу 1960-х годов, что, в свою очередь, было частью общей политической переориентации на менее образованную аудиторию и на членов партии, чья поддержка советского государства не была сильно поколеблена вводом войск в Чехословакию. Сразу после кризиса, на предновогодних совещаниях в ноябре 1968 года, редакция музыкальных программ подверглась критике за то, что в ее работе непропорционально много внимания уделялось «чисто развлекательным» программам.
В ответ на это, как отмечалось в одном отчете, определение «массовых» или «развлекательных» жанров — а к этой категории относились популярная музыка и «Голубой огонек» — было расширено и теперь включало в себя «массовые ансамбли, оркестры легкой музыки, народные инструменты». Отныне программы должны были быть посвящены «гражданской теме, революционной романтике, патриотическим песням, народным танцам», хотя телевизионным продюсерам и руководителям уже давно было прекрасно известно, что большинство зрителей, писавших им, предпочитают эстраду.
Впрочем, это «закручивание гаек» оказалось на удивление эфемерным. События 1968 года, по сути, усилили важность подлинно популярной музыки как ключевой арены соперничества в холодной войне. В отчете редакции музыкальных программ руководству Гостелерадио от ноября 1968 года говорилось: «На современном этапе обострения идеологической борьбы музыка более, чем когда-либо, становится одним из важнейших средств завоевания умов и сердец».
В результате многие из новых ограничений были довольно быстро отменены. Дипломатическая разрядка в холодной войне открыла путь к более заметной роли иностранных музыкальных стилей, к тому же и создание «хорошего настроения» к празднику приобрело в отсутствие широкого политического энтузиазма особое значение.
Холодная война показала важность доступных популярных развлечений в тот самый момент, когда спрос на иностранные музыкальные стили и звучание, особенно среди политически значимой молодой аудитории, быстро возрастал. А поскольку праздничные телепрограммы были нацелены на объединение советской аудитории, телевидению пришлось по мере сил — под гораздо более жестким контролем со стороны цензоров — догонять другие СМИ, в которых зарубежная музыка распространялась свободно.
В 1971 году в новогодней праздничной программе Центрального телевидения вновь появились чешские популярные музыканты, а во второй половине 1970-х в новогодних концертах вновь зазвучала зарубежная музыка, в том числе и такие стили, которые невозможно было себе представить в начале 1960-х, не в последнюю очередь потому, что сама западная популярная музыка сильно изменилась.

Однако август 1968 года все же нанес серьезный удар по гармоничному образу свободного советского общества времен оттепели, отраженному в «Голубых огоньках»; он также положил конец претензиям советской интеллигенции на то, чтобы играть центральную роль в советской жизни. Крах представлений «Голубого огонька» о советской жизни ярко выразился в стремительном падении популярности программы.
В 1970 году в новогоднем шоу продолжали участвовать популярные артисты эстрады, в том числе эффектная Эдита Пьеха в сверкающем платье, но сама передача превратилась в набор заранее записанных выступлений, уже не объединенных замысловатыми сюжетами с вручением подарков, дорогими спецэффектами и импровизированной беседой представителей интеллигенции, как это было в предыдущем десятилетии. Декорации кафе были теперь подняты на сцену.
Во многом это была уже простая подборка видеоклипов, утяжеленная заранее подготовленными интервью с образцовыми трудящимися.В обзоре писем телезрителей, поступивших на Центральное телевидение в 1972 году, цитировалось письмо, в котором суть дела была изложена прямо: «Интерес к передаче падает. Причина, на наш взгляд, в плохо составляемой программе. Песни старые, исполняются одними и теми же певцами. Мало юмора и сатиры». «В письмах, — продолжали авторы обзора, — часто повторялась одна и та же просьба: „Если нет возможности выпускать новые передачи, мы с удовольствием будем смотреть записи старых выпусков“».
Эта просьба была удовлетворена в том же, 1972-м, созданием передачи «По страницам „Голубого огонька“», в которой демонстрировались фрагменты выпусков 1960-х годов. Ощущение разрыва с прошлым, с тем, что было до 1968 года, оказалось настолько велико, что «Голубой огонек» 1960-х стал объектом ностальгии менее чем через десятилетие.
На протяжении 1970-х и в начале 1980-х годов исследователи и критики продолжали задаваться вопросами о том, «что случилось с „Голубым огоньком“» (как было сформулировано в одной статье) и как с этим быть. Они изо всех сил пытались понять, как «фальшивость и невеселость», характеризующие программу после 1968 года, можно превратить в «непосредственность» и «честность» прежних «Голубых огоньков».
Это критическое обсуждение упадка «Голубого огонька» было фоном для нового набора музыкальных передач и телеигр, созданных после 1968 года, которые стали совсем иначе организовывать и драматизировать отношения между телезрителями и Центральным телевидением. Ключевым элементом этой новой сетки музыкальных программ стало создание в 1971 году музыкальной передачи, которая вышла на следующий день после «Голубого огонька», вечером первого дня Нового 1972 года. Получившее название «Песня года», это новое шоу было организовано в виде не беседы в кафе, а конкурса.
Читайте также
«Поле чудес». История первого в стране капитал-шоу: слитки золота от МММ, круизные спецвыпуски и азартная романтика игры
История «Взгляда»: как легендарная передача 1990-х стала рупором перестройки сознания
Телепрограмма застоя. Как унылое телевидение 80-х предопределило успех «Симпсонов»