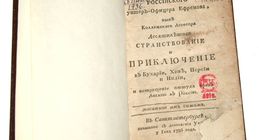Парадоксальный экстремист российской истории — писатель Лев Толстой. Его антимилитаристская риторика подрывает важнейший для государства институт армии, при этом никаких насильственных действий он для этого не предпринимает и даже не призывает к ним. В тексте о том, как устроена толстовская антивоенная позиция, разбираем, почему любая система власти держится на самовоспроизводящемся насилии, как официальная церковь тормозит духовную эмансипацию народа, почему, несмотря на индивидуальное непринятие насилия, становится возможен массовый политический террор и какие способы гражданского неповиновения разрабатывал Толстой.
24 марта на площади перед храмом Христа Спасителя москвич провел одиночный пикет. На плакате, который пикетчик держал в руках, была цитата из книги Льва Толстого «Христианство и патриотизм»: «Патриотизм — отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти».
Власть сочла, что москвич дискредитировал российскую армию (статья 20.3.3 КоАП), а Толстой, по ее мнению, «является исторической фигурой, представляющей условно названное „зеркало революции“», а «в произведениях автора жестко критиковался правящий режим <…> Таким образом, действия следует трактовать как призыв к свержению действующей власти, а также следованию идеологии Толстого».
При мнимой абсурдности ситуации в данном случае полицейские оказались правы. Они — не без оснований — разглядели угрозу для армии в «безусловном классике русской литературы», возглавляющем наш словесный канон.
Россия, одновременно ведущая боевые действия и уважающая свое литературное наследие, неизбежно спотыкается о Льва Толстого. В таком положении она была в начале ХХ века, в таком же положении она сейчас. Толстой для нее — парадоксальный экстремист. Экстремист — потому, что его антивоенная риторика подрывает институт армии, важнейший для государства, а парадоксальный — потому что никаких насильственных действий он для этого не предпринимает и даже не призывает к ним.
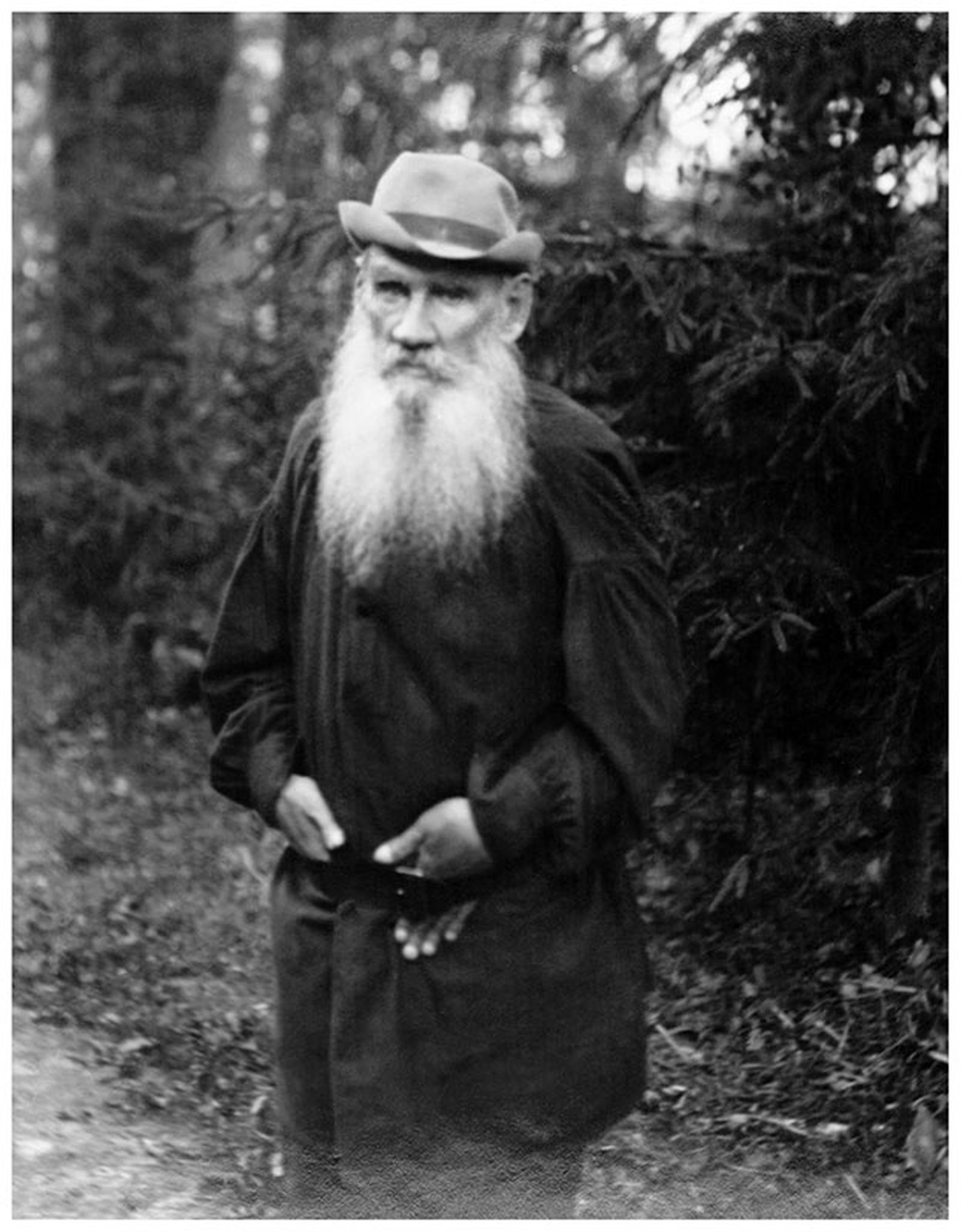
Толстой также — главный и самый радикальный пацифист из российских классиков. Если Федор Достоевский считал, что война «поднимает дух народа и его сознание собственного достоинства», то сопоставимому по влиянию Толстому она представлялась очевидным злом, развращающим народ — и нападающий, и обороняющийся.
Чтобы разобраться, как устроена толстовская антивоенная позиция, стоит расширить понятие войны до понятия «насилия» в принципе, ставшего центральным в работах позднего Толстого. На теоретизации и осмыслении насилия классик построил целую философию, вылившуюся в самостоятельное движение — толстовство. Оно, к слову, стало прообразом американских хиппи, а горячими последователями антивоенных взглядов Толстого были Махатма Ганди — индийский лидер, борец за независимость от Великобритании — и Мартин Лютер Кинг, важнейший борец за права чернокожих в США.
Непротивление злу насилием. Ключевые понятия философии Толстого
В начале 1880-х Толстой пишет: «То, что прежде казалось мне хорошо, показалось дурно, и то, что прежде казалось дурно, показалось хорошо. Со мной случилось то, что случается с человеком, который вышел за делом и вдруг дорогой решил, что дело это ему совсем не нужно, — и повернул домой. И все, что было справа — стало слева, и все, что было слева, — стало справа». Так он описывает знаменитый духовный переворот, произошедший с ним и разделивший творчество на «до» и «после».
Толстой в это время — безумно успешный, очевидно состоявшийся человек. У него есть буквально все: статус современного классика, чьи произведения переводят на мировые языки и оплачивают огромными гонорарами, жена, дети; все ищут с ним дружбы. При этом лично собой Толстой недоволен, и, достигнув 50 лет, он явно сознает необходимость переустройства своей жизни на новых началах. Именно тогда его преследует навязчивая мысль о самоубийстве — сам Толстой просил домашних, чтобы те прятали от него ружье и другие предметы, пригодные для суицида. Все это параллельно с, как бы мы сказали сегодня, паническими атаками, самая известная из которых — так называемый Арзамасский ужас — описана в «Записках сумасшедшего».
«Я как будто жил-жил, шел-шел, и пришел к пропасти, и ясно увидел, что впереди ничего нет, кроме погибели», — пишет тогда Толстой. Проблема, которая его занимает, — неосмысленное существование, отсутствие какой-то высшей сверхзадачи, ради которой стоит жить и работать. Писатель считает, что пока он заполнял свою жизнь внешними впечатлениями — часто путешествовал, воевал на Кавказе, много тратил и зарабатывал — он потерял что-то неописуемое, но очень важное.
Этим чем-то, в понимании Толстого, стал бог. Но бог, конечно, не в ортодоксальном церковном понимании (в начале ХХ века тогдашняя РПЦ даже предала Толстого анафеме, а Константин Победоносцев — главный православный чиновник того времени — был злейшим врагом писателя), но в новом — толстовском.
Амбиции Толстого в 1880-е — ни много ни мало — заново придумать христианство, расставить акценты в тех местах, на которые давно перестали обращать внимание. Из переводческих и художественных опытов рождается толстовский вариант Нового Завета, который писатель в своей версии очистил от всего чудесного (спаситель там, например, не воскресает после казни на кресте) и сконцентрировал внимание на критически важном для него эпизоде — знаменитой Нагорной проповеди, где Иисус Христос дает последователям практические жизненные советы.
Известный прежде всего как беллетрист, Толстой изобретает «универсальное христианство».
Его интерпретация подсвечивает несколько христианских заповедей, которым стоит непременно следовать. Центральная формулировка для писателя здесь — один из наказов Христа, озвученных в Нагорной проповеди: «Не противься злому силой: Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому». Из него-то и выходит понятие о непротивлении злу насилием, которое во многом сформировало современный пацифизм. Для понимания концепции непротивления нужно определить два принципиальных понятия — насилие и ненасилие.
Толстовское понимание насилия, в целом, — классическое для социальной мысли начала ХХ века; оно схоже с концептом, разработанным немецким политологом Максом Вебером, писавшем о «монополии государства на насилие». Насилие построено на принуждении, «насиловать — значит делать то, чего не хочет тот, над которым совершается насилие», — пишет сам Толстой. Развивая эту мысль, он приходит к тому, что главным проявлением насилия является убийство — самый тяжелый грех в иерархии, построенной писателем.
Насилие противоположно любви, которую Толстой понимал как принцип нормальных христианских взаимоотношений между людьми. «Сущность жизни человеческой и высший закон, долженствующий руководить ею, — пишет Толстой, — есть любовь», которая практически выражается в отказе подчинять других людей собственной воле, заставлять, принуждать к чему бы то ни было.
«Всё, что не твоя душа, всё это не твое дело» — Толстой как бы эмансипирует, утверждает суверенитет каждой души и каждого тела — и крестьянского, и царского. В этом смысле вся сложная государственная система, где один человек подчинен другому, казалась Толстому глубоко порочной.
Любая иерархия, без которой, вообще-то, невозможно нормальное функционирование страны, в таком разрезе несправедлива. Такой взгляд Толстого на государство давал повод многим называть его анархистом.
Понятие ненасилия (или непротивления злу насилием) — абсолютный императив для Толстого, некое простое правило, которому должна быть подчинена каждая жизнь: «не противься злому — значит не делай насилия, то есть такого поступка, который всегда противоположен любви». Получается, ненасилие — практическое выражение любви, в котором уже на лингвистическом уровне указано, чего человеку не стоит делать.
Это довольно радикальная позиция для любого христианского мыслителя. Согласно ей, например, главе семейства буквально запрещено защищать свой дом и родных от бандитов. Совершенно логично, что такой вроде бы невыполнимый принцип вызвал много критики.
Например, религиозный философ Иван Ильин написал целую книгу с красноречивым названием «О сопротивлении злу силой». Там он обосновал необходимость физически, а не только душой, сопротивляться злу, объясняя это тем, что «несопротивляющийся злу поглощается им и становится одержимым». Правда, ответить на тезисы Ильина у Толстого уже не было никакой возможности — труд был написан в 1925 году, спустя 15 лет после смерти писателя.
При этом некоторые очевидные вопросы, которыми задается читатель позднего Толстого, выведены и оспорены им самим в произведении «В чем моя вера?». Базовый аргумент человека, которому предлагается жизнь по заветам толстовского христианства, — если я один буду следовать принципу ненасилия, а остальные продолжат жить как раньше, то я не смогу защитить себя от нападений извне, и буду избит, унижен, а возможно и убит. На это Толстой отвечает, что исполняющий волю бога на земле уже спасает себя для вечной блаженной жизни, поэтому насилие со стороны, с которым может столкнуться человек, оправдано его дальнейшим непротиворечивым бытием или небытием, в котором ему открывается «царство божее».
Также Толстой протестует против превентивного насилия. Например, против смертных казней, призванных предотвратить новые злодейства неисправимых преступников. Толстой здесь отрицает саму категорию «неисправимости» человека. Неожиданное божественное озарение, которое ничем физически не обусловлено, лежит в основе и самого духовного переворота Толстого, и его художественной версии, выведенной в романе «Воскресение». Мы не можем утверждать, что преступник непременно окажется рецидивистом, а даже если так — казнь подействует на других людей; например, она озлобит родственников казнимого.
Насилие, по Толстому, самовоспроизводится, и одно его проявление дает импульс новым.
Вообще, насилия в мире Толстого крайне много, и оно расфасовано по разным сферам нашей жизни. Из всего многообразия смертоубийства, как высшей точки проявления насилия, исследователь творчества Толстого Андрей Зорин, например, говорит о трех основных путях: криминал, война и государственное насилие. И если криминальное убийство, которое вершат гражданские над гражданскими, мы уже рассмотрели, то остальные два пункта, особенно в современных условиях, провоцируют особый интерес.
Преступные приказы и практика гражданского неповиновения
«Опять война. Опять никому не нужные, ничем не вызванные страдания, опять ложь, опять всеобщее одурение, озверение людей», — так Толстой начинает свой программный антивоенный манифест «Одумайтесь».
В начале 1904 года начинается Русско-японская война, во многом спровоцированная Российской империей. Начало кампании сопровождается традиционным ура-патриотическим взрывом, который подогревают провластные журналисты и публичные фигуры, призывая бить «желтолицых карликов». На фоне этой, совершенно ненужной, по Толстому, войны он решает зафиксировать ее порочность, пользуясь терминологией ненасилия, дать практические советы, как предотвратить будущие конфликты.
Толстой в тот момент — уже опальный на родине, но безумно популярный во всем мире писатель. Британский критик писал автору: «Волнующая, смелая статья во вчерашнем Times читается в Англии больше, чем что-либо написанное вами. Она много сделает для мира во всех странах». В это же время в отечественных газетах писателю вменяли пораженчество и национал-предательство. Так, в статье газеты «Гражданин» Толстого обвиняли в «чуждости России» и в том, что «так пошло и подло чувствовать, думать и высказываться не может ни один Русский человек».
Война как таковая по Толстому — абсолютное зло; сумма из сотен и тысяч убийств, каждое из которых — «страшное, противное совести, благу и вере дело». (И это он еще не дожил до обеих мировых войн, до изобретения ядерного оружия.)
Толстой считает, что войну развязывают дипломаты и представители высшей административной элиты (прежде всего царь и министры), обосновывают ее необходимость для людей — журналисты и духовенство, а отдают преступные приказы — профессиональные военные.
Представители каждой из этих категорий обладают той или иной властью над нижестоящими людьми, используя указ, приказ или статью — они навязывают другим свою волю, а в иных случаях — жестоко карают за ее несоблюдение. Вот и получается, что там, где существуют государства с жесткой вертикалью власти, всегда будут войны. Потому что они построены на бюрократическом принципе размытия ответственности: один придумал и записал бесчеловечный закон, другой утвердил, третий исполнил. Получается сложная система, в которой каждый исполняет свою функцию и не отвечает за процесс в целом, даже если функция — часть одного большого зла.
Толстой пишет, «ни один генерал или солдат без дисциплины, присяги и войны не убьет не только сотни турок или немцев и не разорит их деревень, но не решится ранить ни одного человека. Все это делается только благодаря той сложной государственной и общественной машине, задача которой состоит в том, чтобы разбивать ответственность совершаемых злодейств так, чтобы никто не чувствовал противоестественности этих поступков».
Способ уничтожить эту порочную систему взаимоотношений, по Толстому, довольно простой — осознать свою субъектность. Задать себе вопрос: насколько то, что я делаю, соотносится с моими христианскими убеждениями? «И то же самое, — пишет Толстой, — должен сказать себе солдат, которому внушено, что он должен убивать людей, и министр, считавший своей обязанностью приготовления, к войне, и журналист, возбуждающий к войне, и всякий человек, задавший себе вопрос о том, что он такое, в чем его назначение в жизни».
В целом, каждый представитель системы давно задал бы себе этот вопрос и «невозможно, — пишет Толстой, — чтобы этого не было». Но христианство истинное, сведенное прежде всего к принципу ненасилия, писатель противопоставляет «церковной вере», необходимой государству для «поддержания в народе грубых суеверий, выдаваемых за христианскую религию». Духовенство и вся система государственного православия направлены, как считает Толстой, на воспроизведение «догматов, таинств, обрядов», которые «в высшей степени вредны» и скрывают «от людей ту единую религиозную истину, которая выражена в исполнении воли Бога, братстве людей, служении людям». Представители официальной церкви тормозят этот процесс душевной эмансипации народа, отводя его взгляд от самой сути христианства. (Такой явный антиклерикализм и дал основания большевикам, после прихода к власти, вписать Толстого в список «революционных» классиков и взять его себе на идеологическое вооружение.)
Толстой призывает каждого человека не поступаться совестью и религией на том уровне, на каком он способен. Солдату — не убивать, командиру — не отдавать приказ, дипломату — не развязывать войну, а журналистам и духовенству — перестать дурачить народ.
Цель каждого субъекта государства, чтобы предотвратить возможные войны, — «исполнение воли Бога каждым отдельным человеком в себе, т. е. в той части мира, которая одна подлежит его власти». Выходит, каждый участник государственной системы, воспроизводящей войны и насилие, должен научиться применять свою волю лишь к себе самому, не обращая внимание на должность, приказ или иное внешнее обязательство.
Здесь опять проявляется анархический и антигосударственный пафос Толстого. Дело не только в том, что у писателя архитекторы нашей политической системы буквально «худшие из худших», но и в том, что они не могут быть иными. Некая отрицательная селекция уже заложена в основу управленческой системы Нового времени. Толстой отказывает нам в самой возможности меритократии, оспаривая тезис о том, что «достойные» люди даже в теории могут властвовать над «недостойными». Вторые, считает он, используют все средства (иногда ударяясь в откровенный макиавеллизм), чтобы властвовать над первыми. «Могут быть злые и среди тех, которые подчиняются власти, но не может быть того, чтобы более добрые властвовали над более злыми», — пишет Толстой в «Царстве божием внутри нас».
Людям, считает писатель, намного проще было бы договориться без посредников в лице государств. В таком случае «буддисты, закон которых запрещает убийство не только людей, но животных» и «христиане, исповедующие закон братства и любви», перестанут, «как дикие звери, искать друг друга, чтобы убить, замучить, искалечить самым жестоким образом» на войнах, которые развязывают правительства.
По сути, Толстой стал одним из первых современных идеологов «гражданского неповиновения» (переработав идеи Генри Торо, британского писателя и автора самого понятия), получившего известность в ХХ веке после протестов Махатмы Ганди в Индии и Мартина Лютера Кинга в США. Эта практика ненасильственного сопротивления, когда человек отказывается взаимодействовать с государственными институтами и исполнять чужую волю, противоречащую его убеждениям, отразилась во многих общественных движениях ХХ века. Например, в так называемых conscientious objectors, «сознательных отказчиках», людях, принципиально отказавшихся служить в армии по религиозным или иным убеждениям. Конечно, сознательный отказ практиковался задолго до эпохи мировых войн, но свое массовое распространение он получил именно в ХХ веке. Так, один из плодов этих выступлений — право на альтернативную военную службу, которое сегодня худо-бедно реализуется и в России.
Политическое насилие: взгляд на репрессии и террор
Вообще, с точки зрения Толстого, любой принятый закон — это уже не вполне правильно (потому как принуждает одних людей, а других ставит как контролеров), но самая вопиющая, несправедливая форма насилия, проводимого государством, — это политический террор.
Как мы уже знаем, казни в понимании Толстого не только бессмысленны, но и вредны. Уже хотя бы потому, что: а) уверенности в том, что преступник совершит преступление снова, считает писатель, нет и быть не может; б) публичное насилие озлобляет окружающих и расширяет границы допустимого беспредела по отношению к ближнему. При этом под конец жизни Толстого, в 1910-е, политический террор становится явлением вполне распространенным.
К 1908 году Первая русская революция, принесшая народу формально закрепленные свободы (собраний, печати, неприкосновенности личности и другие) тремя годами ранее, давно выдохлась. Первые месяцы вольнолюбивого 1905-го, — когда в одном только Петербурге выходило три социал-демократические (оппонирующие царю) газеты тиражом от 50 до 100 тыс. ежедневно, — сменились «столыпинской реакцией». Большинство публичных фигур, причастных к Первой русской революции, спешно покинули страну, а менее везучие уже пребывали в местах не столь отдаленных. В Российской империи, где смертная казнь последние десятилетия применялась только в крайних случаях, за 4 года — с 1906-го по 1910-й — вешают почти 4 тысячи человек. В основном казнят взбунтовавшихся против помещиков крестьян и революционеров.
10 мая Толстой читает в «Русских ведомостях» заметку, где сказано о повешении двадцати крестьян. Реакция графа была такой — в фонограф он продиктовал: «Нет, это невозможно! Нельзя так жить!.. Нельзя так жить!.. Нельзя и нельзя». И в спешке сел за свою знаменитую брошюру «Не могу молчать», посвященную новому витку репрессий царского правительства. Газету, опубликовавшую статью, оштрафовали; севастопольского издателя, который расклеивал по городу отрывки из статьи, арестовали.
Написанная ясным, демократичным языком, эта вещь повлияла не только на искушенных интеллектуалов, но и на рабоче-крестьянскую среду, куда ее протаскивали революционеры. А ведь именно против них — «тех самых людей, трудами которых мы живем, тех самых, которых мы всеми силами развращали и развращаем, начиная от яда водки и до той ужасной лжи веры, в которую мы не верим, но которую стараемся всеми силами внушить им», — и направлен террор, считает писатель.
Эти казни, в понимании Толстого, — самовоспроизводимый механизм насилия, который, даже если государство прекратит процессы, сработает в сторону самих чиновников и политиков.
Писатель вспоминает про террор «снизу» — не те импульсивные крестьянские волнения, за которыми кроме озлобленности на господ мало что стоит, а настоящая идеология насилия, реализуемая революционерами. Боевая организация эсеров, «прославившаяся» убийством министра внутренних дел Вячеслава Плеве, — яркая примета той эпохи.
При этом Толстой считает, что сравнение между царским аппаратом и революционерами, «никак не в пользу» первых. «Оправданием» революционеров служит: а) тот риск и личная опасность, на которую они идут при деле; б) их молодость, которой «свойственно заблуждаться», политики же — «большею частью люди зрелые, старые, которым свойственно разумное спокойствие и снисхождение к заблуждающимся»; в) их убийства «не так холодно-систематически жестоки, как Шлиссельбурги, каторги, виселицы, расстрелы» государства. И последний, важный для писателя, как для христианского проповедника, момент — революционеры не оправдывают свою жестокость религией и — в рамках своего леворадикального движения — действуют вполне последовательно. Царская же власть декларирует свое божественное происхождение и прикрывает казни волей Христа, что для Толстого — прямо-таки святотатство и крайний абсурд.
Как и с военным насилием, залогом самой возможности политического террора становится многоступенчатая государственная иерархия. Если бы тот, кто приказывает убить, сам бы свое желание и исполнял — насилие не множилось бы с такой скоростью.
Но, пишет Толстой, «придумана даже такая тонкость, что приговаривают одни (военный суд), а присутствуют обязательно при казнях не военные, а гражданские».
Вся описанная Толстым система насилия потому и ужасна, что мешает людям выполнять то единственное дело, ради которого они живут: «прожить этот короткий промежуток данного нам времени в согласии с той волей, которая послала нас в этот мир, и в согласии с ней уйти из него», — говорит писатель, очевидно имея в виду христианство, которое у него самого и выражено в понятии ненасилия.
И в конце концов политический террор, чем бы он ни оправдывался, так же ужасен, как и война. Просто его вектор, если отправной точкой считать государство, направлен внутрь, а не вовне. Брошюру Толстой заканчивает прямым обращением к архитекторам и исполнителям террора: «Вы же, что вы делаете? На что кладете свои душевные силы? Кого любите? Кто вас любит? Ваша жена? Ваш ребенок? Но ведь это не любовь. Любовь жены, детей — это не человеческая любовь. Так, и сильнее, любят животные. Человеческая любовь — это любовь человека к человеку, ко всякому человеку, как к сыну божию и потому брату. Кого же вы так любите? Никого. А кто вас любит? Никто».