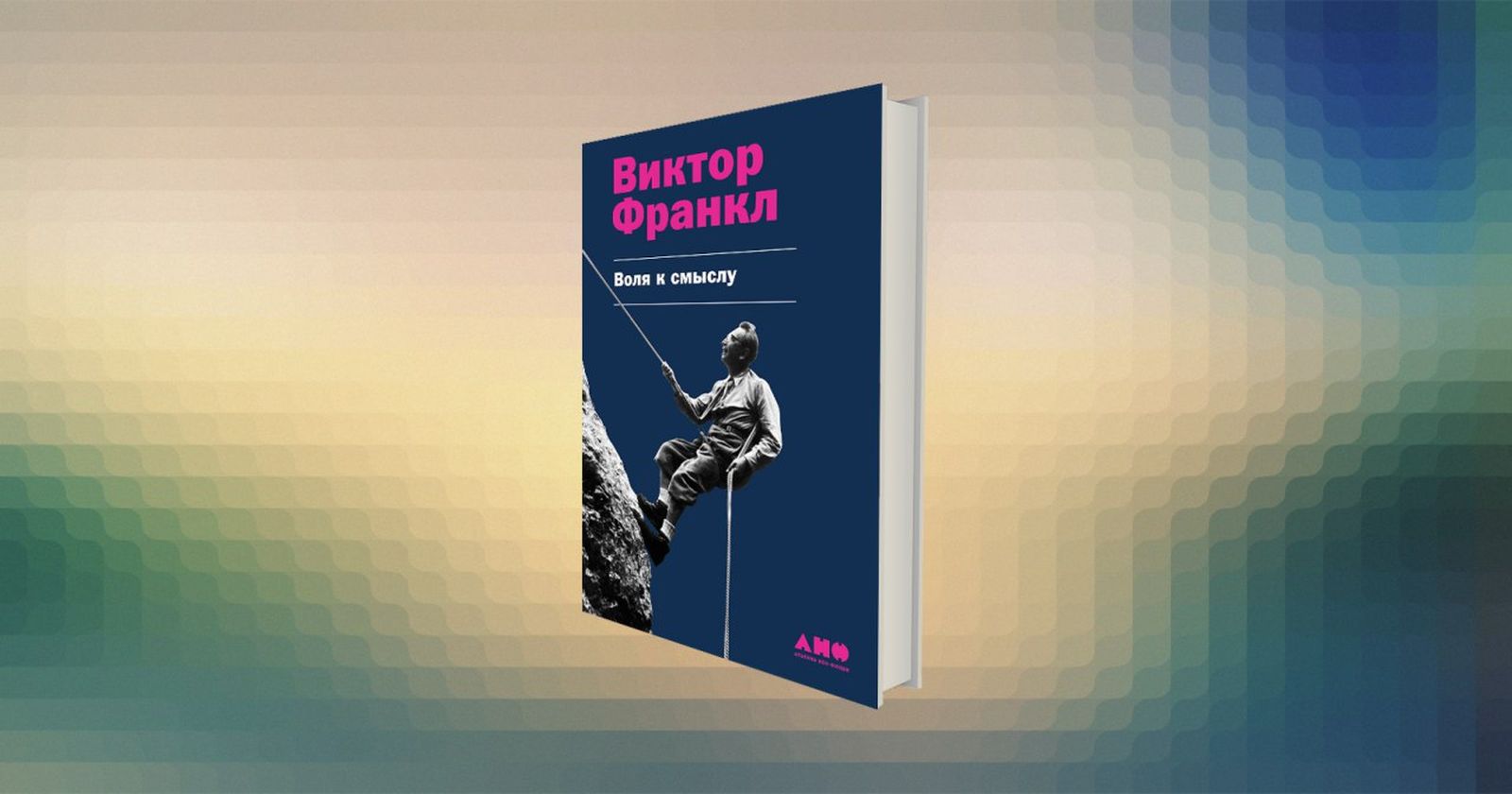Воля к смыслу — это одно из трех главных понятий логотерапии: свободы воли, воли к смыслу и смысла жизни. Создателем логотерапии в качестве одного из видов экзистенциальной психотерапии был Виктор Франкл, психиатр, психолог, невролог и нейрохирург австрийского происхождения.
В 2018 году издательство «Альпина Нон-фикшн» выпустила переиздание одного из главных трудов Виктора Франкла — «Волю к смыслу». В книге, состоящей из его лекций, доходчиво и подробно объяснены два главных раздела логотерапии — само основание ее существования и способы применения этой психотерапии на практике.
Основная концепция логотерапии звучит весьма позитивно — по мнению Виктора Франкла, движущей силой всего человеческого существования, его мотивацией и целью является поиск некоего смысла жизни, а также его последующая реализация. А вот утрата смысла жизни, согласно основной концепции логотерапии, выступает главной причиной развития депрессий, алкоголизма, наркомании и возрастания агрессии как у отдельного человека, так и у общества в целом. И хотя теорию Фрейда Франкл опровергнуть не пытался, он все-таки выступал за идею отсутствия смысла жизни в качестве основной причины агрессии в противовес фрейдовской вере в подавление сексуальных инстинктов.
Виктор Франкл находился в постоянном поиске инструментов, позволяющих сделать жизнь более осмысленной. К таковым он относил, например, созидание, получение нового опыта, встречи с новыми людьми на жизненном пути, выделение опыта из любых позитивных и негативных событий.
Интересно, что психолог не остался лишь теоретиком — ему пришлось испытать собственную экзистенциальную психотерапию на практике после того, как он попал в один из концлагерей нацистской Германии. Там он потерял практически всю семью, включая жену и родителей (выжила только сестра, которая в последующем вернулась в Австрию), но тем не менее на протяжении нескольких лет уверенно вел лекции для остальных окружающих его узников о смысле жизни и необходимости о нем помнить даже в самые черные дни. Два года Виктор Франкл находится в Терезиенштадте, потом — несколько дней в Аушвице, затем в октябре 1944 года его перевели в один из лагерей Дахау, где психолога ожидали полгода каторжной работы.
За время своего пребывания в концлагерях Виктор Франкл создал службу психогигиены, работал в психотерапевтическом отделении и даже возглавлял неврологическую клинику. Вместе с несколькими соратниками он старался пресекать случаи самоубийства на территории лагеря, пытаясь вернуть своим пациентам надежду на благополучный исход и скорое освобождение. Один из его последователей, раввин Лео Бек тоже застал момент освобождения от фашистской власти, в то время как еще одна помощница (первая в мире женщина, практикующая в статусе раввина), Регина Йонас, погибла в 1944 году в Аушвице, куда ее перевели на несколько дней раньше, чем Виктора Франкла.
По итогам своего трехлетнего пребывания в различных лагерях, Виктор Франкл написал большое количество трудов, описывающих жизнь там именно с профессиональной точки зрения (например, «Сказать жизни "ДА". Психолог в концлагере»). Всего психолог написал более трех десятков книг, которые были переведены на несколько десятков языков и разошлись по всему миру. После войны Виктор Франкл не раз высказывал идею примирения и прощения, которую, видимо, нашел в качестве собственного смысла жизни, с помощью которого и пережил несколько лет каторжных условий.
Предлагаем познакомиться с отрывком труда Виктора Франкла «Воля к смыслу» о ситуации, сложившейся в психотерапии XX века, и о позиции в ней логотерапии.
Ситуация психотерапии и позиция логотерапии
Нынешняя ситуация в психотерапии характеризуется подъемом экзистенциальной психиатрии. Фактически можно говорить о прививке экзистенциализма к психиатрии как о важнейшей современной тенденции. Но, говоря об экзистенциализме, мы должны учитывать, что экзистенциализмов существует примерно столько же, сколько экзистенциалистов. Мало того что каждый экзистенциалист формирует собственную версию этой философии, каждый вдобавок использует терминологию по-своему, не так, как другие. Например, такие термины, как «экзистенция» и Dasein, несколько по-разному понимаются в творчестве Ясперса и Хайдеггера.
Тем не менее у всех авторов в поле экзистенциальной психиатрии есть нечто общее — общий знаменатель. Это выражение, которое данные авторы столь часто употребляют — и которым, увы, нередко злоупотребляют: «бытие в мире». Кажется, многие из них считают: чтобы называться истинным экзистенциалистом, достаточно время от времени произносить фразу «бытие в мире». Лично я сомневаюсь, что это дает полное право именовать себя экзистенциалистом, особенно учитывая, что (это нетрудно продемонстрировать) хайдеггеровская концепция бытия в мире в большинстве случаев перетолковывается в пользу чистой воды субъективизма, так, словно «мир», где «находится» человек, сам по себе есть всего лишь самовыражение этого человека. Я отваживаюсь критиковать столь широко распространенное заблуждение только потому, что однажды имел возможность обсудить это в личном разговоре с Мартином Хайдеггером и убедился, что в этом он со мной согласен.
Недопонимание в сфере экзистенциализма можно легко понять. Терминология тут порой эзотерическая, и это еще мягко сказано. Примерно тридцать лет назад я должен был выступать в Вене с публичной лекцией о психиатрии и экзистенциализме. Я привел два примера и сообщил слушателям, что один взят из текста Хайдеггера, а другой — из разговора с пациентом-шизофреником, который лечился в государственной больнице Вены в ту пору, когда я там работал. И я предложил аудитории проголосовать, где чьи слова. Хотите верьте, хотите нет, подавляющее большинство приписало отрывок из Хайдеггера больному шизофренией — и наоборот. Результаты этого эксперимента не должны, конечно, подводить нас к поспешным выводам. Ни в коем случае эта путаница не умаляет величия Хайдеггера, и для нас он остается такой же безусловной величиной, как для многих специалистов. Скорее этот результат указывает, как мало повседневный язык готов выражать неведомые доселе чувства и мысли, будь то революционные идеи великого философа или странные ощущения больного шизофренией. Общее для всех — кризис средств выражения, и я в другом месте уже доказывал, что нечто похожее происходит и с современным художником (см. мою книгу «Психотерапия и экзистенциализм. Избранные работы по логотерапии. Psychotherapy and Existentialism, Selected Papers on Logotherapy, Washington Square Press, New York, 1967, глава «Психотерапия, искусство и религия»).
Что же касается метода, который я назвал логотерапией и о котором идет речь в этой книге, большинство авторов согласны отнести его в рубрику экзистенциальной психологии. Еще в 30-е годы я придумал выражение «экзистенциальный анализ» (Existenzanalyse) как альтернативное для термина «логотерапия», созданного мною в 20-е. Позднее, когда американские специалисты начали публиковать работы в сфере логотерапии, они использовали выражение existential analysis, переведя Existenzanalyse на английский. К сожалению, другие авторы поступили точно так же со словом Daseinsanalyse — этот термин в 40-е годы великий швейцарский психиатр Людвиг Бинсвангер предпочел для обозначения собственного учения. С этого момента английское выражение existential analysis стало не слишком-то однозначным. Чтобы не усиливать путаницу, порожденную таким состоянием дел, я все более избегал использовать в работах на английском языке выражение «экзистенциальный анализ». Зачастую я использовал термин «логотерапия» даже в контекстах, где, строго говоря, не было речи о терапии как таковой. Например, то, что я называю медицинским служением, представляет собой важный аспект в практике логотерапии, но показано это служение именно в ситуации, когда собственно терапия уже невозможна, поскольку пациент болен неизлечимо. Да, логотерапия и тут остается лечением в самом широком смысле слова — мы лечим позицию пациента по отношению к неизбежной судьбе.
Логотерапию не только помещали в категорию экзистенциальной психиатрии, но также внутри этой категории прославляли как единственную школу, сумевшую развить то, что можно по праву именовать техникой. Однако из этого не следует, что мы, логотерапевты, преувеличиваем значение техники. Давным-давно стало ясно, что в терапии важнее всего не техника, а человеческие отношения между врачом и пациентом, личная и экзистенциальная встреча.
Чисто технологический подход к психотерапии может помешать терапевтическому эффекту. Некоторое время назад меня пригласили прочесть в американском университете лекцию перед группой психиатров, работавших с людьми, которых пришлось эвакуировать во время урагана. Я не только принял приглашение, но и назвал эту лекцию «Техника и динамика выживания», что вполне устраивало спонсоров. Но в самом начале выступления я честно предупредил всех, что, до тех пор пока мы будем формулировать свою задачу лишь в понятиях техники и динамики, мы будем упускать из виду главное — сердца тех, кому попытаемся предложить первую психиатрическую помощь. Подступаясь к людям исключительно «технически», мы уже пытаемся ими манипулировать, а подступаясь к людям исключительно «динамически», мы их объективируем, превращаем в вещи. И эти люди, разумеется, сразу же замечают и чувствуют манипуляторство в наших приемах и нашу тенденцию объективировать. Я бы сказал, объективация сделалась перво- родным грехом психотерапии. «Не-вещность» человека (а не его «не-вечность») — вот первый урок экзистенциализма.
Когда в рамках другого лекционного тура меня попросили выступить с обращением к заключенным тюрьмы Сан-Квентин, после этого выступления меня заверяли: узники впервые почувствовали, что их кто-то понимает. Ничего особенного я при этом не делал, просто воспринимал их как людей, а не воображал, будто имею дело с механизмами, которые надо исправить. Я воспринимал их так, как они сами изначально себя воспринимали, то есть как свободных и ответственных людей. Я не предлагал задешево отделаться от чувства вины, объявив себя жертвой биологического, психологического или социологического обусловливания. Я также не считал их беспомощными пешками на поле боя между «Оно», «Я» и «Сверх-Я». Не обеспечивал им алиби, не отнимал у них вину, не находил для нее удобных объяснений. Я относился к этим людям как к равным. Они услышали от меня, что сделаться виновным — прерогатива человека и ответственность человека — преодолеть вину.
Что я подразумевал, обращаясь таким образом к узникам Сан-Квентина, если не феноменологию в чистейшем смысле слова? Феноменология — попытка объяснить, как человек понимает самого себя, как он истолковывает свое существование без заведомых способов интерпретации, приуготовленных психодинамическими или социоэкономическими гипотезами. Принимая феноменологическую методику, логотерапия, как определил Пол Полак, пытается сформулировать в научных терминах непредвзятое представление человека о себе.
Позвольте мне вернуться к противопоставлению техники и личной встречи. Психотерапия — больше чем просто техника, потому что она — искусство, и она превосходит чистую науку, потому что она — мудрость. Но даже мудрость еще не все. В концлагере я помню женщину, которая покончила с собой. Среди ее пожитков нашелся обрывок бумаги с записью: «Сильнее судьбы — отвага, которая ее переносит». Вопреки этому девизу женщина свела счеты с жизнью. Мудрость сама по себе недостаточна без личного отношения.
Недавно мне в три часа ночи позвонила дама, сообщившая, что намерена совершить самоубийство, однако ей любопытно знать мое мнение по этому поводу. Я привел все доводы в пользу жизни и против такого решения, я проговорил с ней полчаса, и в итоге женщина пообещала не отнимать у себя жизнь, а обратиться в больницу. Но когда она пришла ко мне на прием, выяснилось, что все мои аргументы нисколько ее не тронули. Единственной причиной, по которой моя собеседница отложила самоубийство, был тот факт, что я не обозлился, когда меня разбудили посреди ночи, а терпеливо ее выслушал, полчаса проговорил с ней. Мир, где такое возможно, стоит того, чтобы в нем жить, решила она.
В психотерапии главным образом это заслуга покойного Людвига Бинсвангера, что человек вновь восстановлен и утвержден в своем человеческом качестве. Все чаще отношения «Я» и «Ты» рассматриваются как суть дела. И все же нужно добавить еще одно измерение. Встреча «Я» и «Ты» не может быть всей истиной, исчерпывающим сюжетом. По сути, самотрансцендентное качество человеческого существования превращает человека в существо, тянущееся за пределы себя. Соответственно, если Мартин Бубер вместе с Фердинандом Эбнером понимает человеческое существование главным образом как диалог «Я» и «Ты», мы вынуждены признать такой диалог несостоятельным до тех пор, пока «Я» и «Ты» не выйдут за пределы себя к смыслу, который лежит вовне.
В той мере, в какой психотерапия, не ограниченная психологическим моделированием и технологиями, основана на личной встрече, подразумевается встреча не двух монад, а двух человеческих существ, хотя бы одно из которых обращено к другому с логосом, то есть со смыслом бытия.
Делая упор на встрече «Я» и «Ты», Daseinsanalyse вынуждает партнеров в такой встрече подлинно прислушиваться друг к другу и тем самым освобождает их от онтологической глухоты. Но все же нам предстоит еще освободить их от онтологической слепоты, все же нужно сделать так, чтобы воссиял смысл бытия.
Этот шаг совершает логотерапия. Логотерапия выходит за пределы Daseinsanalyse или (так этот термин переводит Джордан Шер) онтоанализа, потому что она озабочена не только онтосом, то есть бытием, но и логосом, то есть смыслом. Этим вполне можно объяснить тот факт, что логотерапия — больше чем просто анализ, она, как указывает само название, терапия. В личном разговоре Людвиг Бинсвангер однажды сказал мне, что, по его мнению, логотерапия, в сравнении с онтоанализом, более активна и, более того, логотерапия может стать терапевтическим дополнением к онтоанализу.
Умышленно упрощая, можно дать логотерапии определение, буквальный перевод — «лечение через смысл» (Джозеф Фабри). Разумеется, надо помнить, что логотерапия вовсе не панацея, она показана в одних случаях и противопоказана в других. Во второй части книги, разбираясь с применением логотерапии, мы покажем, насколько она уместна, прежде всего, при неврозе. И тут проступает еще одно отличие логотерапии от онтоанализа. Если максимально сжато определить вклад Бинсвангера в психиатрию, то это более точное понимание психоза, конкретно — особого и специфического способа психотического бытия-в-мире. В противовес онтоанализу логотерапия стремится не к лучшему понимаю психоза, но к более быстрому излечению невроза. Это, конечно, опять-таки упрощение.
В таком контексте следует упомянуть авторов, которые утверждают, что, по сути дела, заслуга Бинсвангера сводится к применению хайдеггеровских концепций в психиатрии, в то время как логотерапия стала плодом применения в психотерапии концепции Макса Шелера.
Теперь, после разговора о Шелере и Хайдеггере и о влиянии их философий на логотерапию, что же мы скажем о Фрейде и Адлере? Разве логотерапия меньше обязана им? Ни в коем случае. В первом же абзаце первой написанной мною книги читатель найдет слова о моем огромном долге перед ними, там я привожу известный образ карлика, стоящего на плечах гиганта: благодаря такой позиции он видит дальше гиганта. Психоанализ есть и всегда будет незаменимой основой любой психотерапии, в том числе и всех будущих школ. Вместе с тем он обречен разделить судьбу иных фундаментов, то есть сделать невидимкой после того, как на нем будет возведено само здание.
Фрейд был в достаточной степени гением, чтобы сознавать: его исследование ограничено фундаментом, он заглядывал в глубинные слои, в низшие измерения человеческой жизни. В письме Людвигу Бинсвангеру он сам говорил: «Я всегда ограничивался цокольным этажом и фундаментом здания», то есть человека. Однажды в рецензии на книгу Фрейд выразил убеждение, что уважение к великому мастеру — вещь правильная, однако уважение к фактам должно быть у нас сильнее. Попробуем теперь заново истолковать и оценить психоанализ в свете фактов, которые выявились лишь после смерти Фрейда.
Такая переоценка психоанализа отклоняется от собственного подхода Фрейда к своим заслугам. Колумб тоже думал, что нашел новый путь в Индию, в то время как открыл новый континент. Есть также разница между тем, во что Фрейд верил и чего он достиг. Он верил, что человека можно объяснить механистической теорией, что его душа может быть излечена техническими методами. А достиг он принципиально иного, того, что и сейчас действенно, лишь бы мы сумели переосмыслить это в свете экзистенциальных фактов.
Согласно одному высказыванию Зигмунда Фрейда, психоанализ опирается на две концепции: он считает причиной невроза вытеснение, а основным способом лечения — перенос. Каждый, кто признает важность этих двух концепций, может с полным правом считать и называть себя психоаналитиком.
Вытеснение преодолевается возрастающей осознанностью. Вытесненное должно быть осознано, или, говоря словами Фрейда, там, где было «Оно», должно настать «Я». Освободившись от механистической идеологии XIX века, рассуждая в понятиях экзистенциальной философии ХХ века, мы можем сказать, что психоанализ поощряет в человеке понимание самого себя.
Также и концепцию переноса можно уточнить и очистить. Последователь Адлера Рудольф Дрейкурс указал на манипуляторское качество концепции переноса по Фрейду. Освобожденный же от этого качества перенос можно понимать как средство той человеческой, личной встречи, которая основана на отношениях «Я» — «Ты». И несомненно, для достижения самопонимания требуется такая встреча. Иными словами, формулу Фрейда «там, где было “Оно”, должно настать “Я”» можно расширить: там где было «Оно», должно настать «Я», но «Я» может сделаться «Я» лишь через «Ты».
Что же касается вытесняемого материала, Фрейд полагал, что это секс. В его время секс подавлялся даже на массовом уровне. Это последствие пуританизма, господствовавшего в англосаксонских странах. Неудивительно, что именно эти страны охотно приняли психоанализ и сопротивляются тем школам психотерапии, которые идут дальше Фрейда.
Отождествлять психоанализ с психологией или психиатрией — такая же грубая ошибка, как отождествлять диалектический материализм с социологией. И фрейдизм, и марксизм скорее определенный подход к наукам, чем сама наука. Разумеется, индоктринация — и в восточном, и в западном стиле — способна размыть разницу между сектой и наукой.
Но в некоторых отношениях психоанализ незаменим, и место Фрейда в истории терапии я мог бы проиллюстрировать с помощью легенды, которую рассказывают в старейшей из ныне существующих синагог — в Староновой синагоге Праги, восходящей к Средневековью. Показывая интерьер синагоги, экскурсовод сообщает, что место, некогда принадлежавшее знаменитому рабби Лёву, никогда не осмеливался занять ни один из его последователей. Для преемников рабби отвели другое место, потому что никто не мог сравняться с рабби Лёвом, никто не мог его заменить. Веками никто не допускался на его сиденье. И сиденье, принадлежащее Фрейду, также пребудет пусто.
Из книги Виктора Франкла «Воля к смыслу» (М.: Альпина Нон-фикшн, 2018)