Рассказ «Дороже денег»
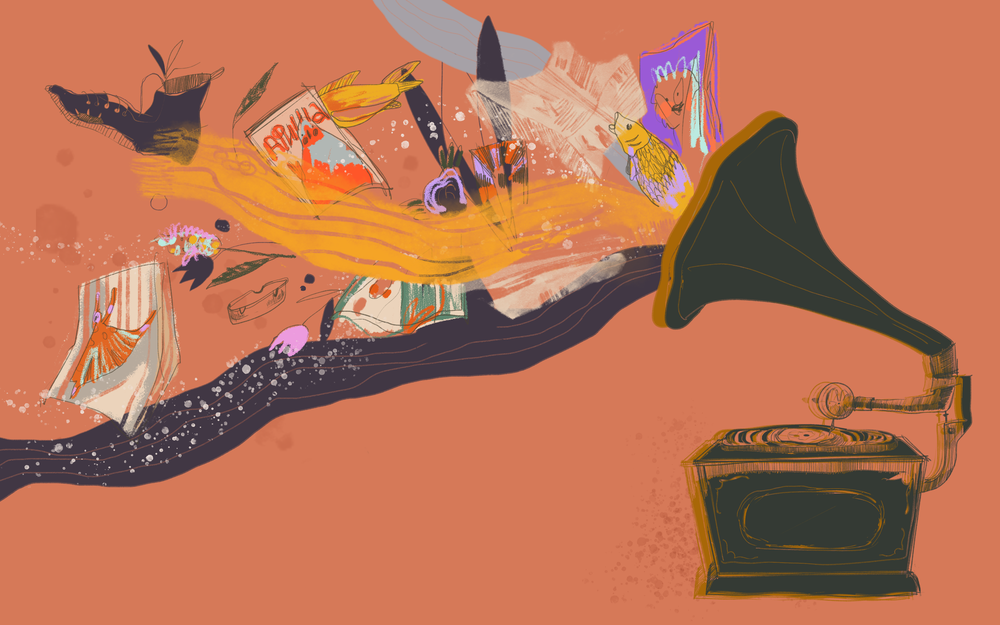
Началась эта история в зимний день на далекой стройке в иркутской тайге. Мороз в тот день стоял за сорок, поэтому все работы на открытом воздухе были отменены, чему больше других обрадовалась небольшая группа разных людей: кто тракторист, кто плотник, кто путеец, — все члены местного литобъединения. Именно так: «лит», потому что никто не решался произнести вслух полное слово «литературное». Это звучало бы самонадеянно и нескромно: никакие мы, мол, не литераторы, а просто любители читать книжки и иногда сочинять собственные тексты. Свою любительскую студию они между собой называли нарочито приземленно — «Литра», хотя относились к ней трепетно, с душой. Встречаться часто им удавалось не всегда, всё дела да дела, поэтому актированные деньки принимались за благо.
Собравшись вместе и отогревшись, студийцы как обычно читали вслух свои стихи, прозаические миниатюры. «А не пора ли нам, друзья, взяться за более серьезный жанр? — предложил кто-то. — Пусть каждый напишет, например, по рассказу». «Рассказ, оно, конечно, нехило, но о чем писать, на какую тему?» — растерянно прозвучало в ответ. Однако зачинщик разговора напомнил своим коллегам-студийцам об одном завете Антона Павловича Чехова по воспоминаниям В. Г. Короленко: «Чехов оглядел стол, взял в руки первую попавшуюся на глаза вещь (это оказалась пепельница), поставил ее передо мною и сказал: «Хотите, завтра будет рассказ, заглавие — «Пепельница»…
Все обрадовались, удивившись простоте задачи по Чехову, и решили через неделю вновь собраться уже для чтения своих первых рассказов, своих «Пепельниц». Однако вскоре эйфория по части легкости их написания быстро прошла.
Пытаясь придумать что-нибудь связанное с пепельницами, я несколько ночей почти не спал. Потом как-то вроде невпопад вспомнилось, как в детстве я и мой школьный друг Мишка Хлебопрос (такая вот смешная была у него фамилия) ездили из нашего небольшого районного местечка в Житомир на сельскохозяйственную выставку.
Мы долго бродили с ним по парку вдоль фанерных киосков, разрисованных цветами и украшенных хлебными снопами, в каждом из которых тот или иной колхоз показывал своё богатство: огромные тыквы, краснобокие яблоки, аквариумы с золотыми карпами, вольеры с надутыми индюками… Вечером, по пути на автостанцию, Мишка предложил на минуту заглянуть к его родственнику — дяде Яше, который торговал в небольшой лавке с вывеской «Уценённые товары».
Мишкин дядя, бородатый старик в черном халате и ермолке, хлюпая носом, замахал на меня руками, чтоб я, дабы не поймать простуду, не подходил к нему близко. Пока они с Мишкой разговаривали, я разглядывал полки со всяким товаром. Там ожидаемо лежали кучки невзрачной одежды и обуви, но меня удивили выставленные рядом с ними совсем неожиданные вещи: противогаз, граммофон, керосиновая лампа, морская раковина. Я бы ещё разглядывал этот причудливый ряд товаров, но Мишка заторопил: «Пора».
На обратном пути, трясясь в кузове попутной машины и угощаясь сладкими пончиками, что дал нам дядя Яша, я расспрашивал Мишку о нем. Оказалось, что дядя одинок: отца с матерью потерял еще в детстве, их зарубили шашками бандиты-погромщики. И хотя, мол, с виду дядя Яша иногда кажется суровым, душа у него очень добрая и мягкая.
Приближалось воскресенье, когда в «Литре» должно было состояться чтение наших первых рассказов, а у моей «Пепельницы» ещё не было ни строчки — один лишь заголовок. И тут я задумался: а не было ли на полках лавки дяди Яши ещё и пепельницы? В этот момент за сплошь заиндевелым окном моей комнаты в общежитии раздался странный звук, как будто звякнула сосулька, — и я немедленно взялся за блокнот.
Пепельница
Мне всегда казалось, что любой поломанный стул или позеленевшая садовая скамейка смогли бы рассказать людям много интересного. В детстве я подолгу простаивал возле пестрой афишной тумбы. Громыхание трамваев и суета прохожих проносились мимо, не задевая меня. Моим вниманием полностью овладевал выщербленный карниз тумбы: под отвалившейся штукатуркой был виден красный кирпич. Конечно же, вот там, на углу улицы стоял пулемет, а здесь прятался, отстреливаясь, какой-нибудь белогвардеец. Мимо, словно ворох осенних листьев, пролетала конница с несмолкающим звоном «Да-а-ешь!». А утром жители города читали на белом лоскуте афиши красную надпись: «Ревком помещается в бывшем доме Терещенко».
Я был очень огорчен, когда бабушка сказала, что тумба поставлена недавно. Но я не сдавался:
— А почему тогда штукатурка пулями сбита?..
Я верил в выдуманный мною мир знакомых вещей. И когда их история оказывалась проще, чем я представлял, это приносило мне немалые огорчения. Я был уверен, что вещи полны глубокой мудрости, как земля, как звезды. Если бы удалось разбить их вековое молчание, мы бы узнали те тайны, которые нам кажутся неразрешимыми.
Интерес к жизни наших немых спутников остался у меня до сих пор и, по словам знакомых, из любознательного мальчика я превратился в чудаковатого парня.
В свободное время я любил бродить по антикварным лавкам, по толкучкам с их бесконечной многоликостью. Здесь можно было увидеть массу редких вещей, которые давно появились на свет и устарели: бронзовый канделябр, фонарь «Летучая мышь», потертое фарфоровое блюдце с двуглавым орлом, старинный граммофон, расписные статуэтки русских и французских солдат, стопка журналов «Нива».
Среди старьевщиков у меня завелись знакомые. Они знали мою слабость и часто, предлагая мне купить у них ту или иную вещь, придумывали сложные и запутанные истории. В этих выдумках было всё, начиная от графа Монте-Кристо и кончая Нестором Махно. Не рассказывал историй лишь один старик в желтом шерстяном шарфе. Глядя на мои торги, он покачивал головой и говорил им:
— Если верить вашим словам, то весь Лувр не стоит этого старого граммофона. И всё же вы его продаете.

Этого старика все звали дядей Сёмой. Он одиноко жил в небольшом деревянном домике недалеко от базара. Когда я заходил к нему в скупочный магазин, он оставлял свои дела и кивал мне из-за прилавка. В тихое от посетителей время мы разговаривали.
— Вы так похожи на моего брата. Он был таким же высоким и интересным. Как жаль, что у меня редко бывает что-нибудь подходящее для вас. Одни поношенные пиджаки и пыльные ковры.
Однажды он подарил мне большую морскую раковину.
— Некоторые посмеиваются над вашим интересом к старым вещам. Э-э, люди! Они этого не понимают. А я не променяю шум этой раковины на разговор с десятком черствых людей.
Мне нравилось бывать у дяди Сёмы. Он один понимал меня. Говорили мы мало. Иногда его глаза с белесыми ресницами немигающе смотрели мимо меня в какую-нибудь точку, как будто он вспоминал о чем-то далёком и грустном. Однажды после такого молчания он сказал мне:
— Если вам не скучно со мной, то приходите ко мне в дом.
Я пообещал зайти. Но экзамены и другие заботы на время заслонили моих добрых знакомых. Лишь через полмесяца перед отъездом в деревню я зашел к дяде Сёме попрощаться. Но в магазине мне сказали, что он заболел и уже неделю лежит в постели.
Возле деревянного дома рос большой ясень. Его зеленая крона, опаленная летним зноем, кое-где начинала желтеть. Иногда плавно слетал жухлый лист, цепляясь за крышу дома и оконные наличники. Мне никто не ответил. Дверь была не заперта, и я вошел.
Дядя Сёма с шарфом на шее неподвижно сидел у окна, накинув на худые плечи старое одеяло. Я тихо поздоровался и сел рядом. Минуты две мы молчали. Потом он повернулся ко мне и спросил:
— Вы видели мою пепельницу?
Это был странный вопрос, и я удивленно пожал плечами. Дядя Сёма медленно пошарил в небольшом шкафчике и поставил на стол ничем не примечательную пепельницу из зеленого стекла. Солнечный свет, преломляясь в ней, рассеивался по комнате зеленоватым туманом.
— Я не рассказывал тебе никаких басен. Зачем выдумывать, когда кругом столько правдивых историй. Мне нелегко об этом вспоминать, но послушай…
Я боялся шевельнуть пальцем. Меня охватило трепетное волнение, какое обычно бывает у человека, когда ему доверяют самые заветные мысли и чувства. Усталой рукой дядя Сёма поправил шарф, закинув его конец за плечо, и продолжил:
— Надо быть евреем моих лет, чтобы понять меня. Вы росли в другое время и всегда были людьми. А мой брат, мать и отец были только евреями, понимаете? Мне было двадцать лет, когда их зарубили шашками. Я видел всё своими глазами…
Его брови сошлись к переносице седыми складками, и его лицо сделалось решительным и злым.
— Возможно, вы слышали об атамане Стрыж? Его босяцкая сотня наводила ужас на всю округу. И больше всех доставалось нам. А разве только один Стрыж? А Заривный? А Омелько Черный? Они налетели перед рассветом. С вечера сеял дождь, такой нудный и мелкий. Наступали красные, и мы надеялись, что Стрыжу будет не до нас и всё будет тихо. Но беда приходит, когда её не ждешь.
Наш дом стоял на окраине, и эти бандиты не проскакали мимо. Один из сотни с черным чубом и налитыми кровью глазами выгнал нас во двор. Его налетчики вынули шашки и подняли их кверху. Я упал перед чубатым на колени и просил его убить меня за хатой, чтоб не видел этого отец. Но он с размаху ударил меня в лицо сапогом.
Когда я очнулся, то увидел во дворе других людей. Надо мной стоял пожилой человек в кожанке, перехваченной широким ремнем. У него были белые скулы, так крепко он их сжал. Он приподнял меня, обнял за плечи и сказал всего лишь пару слов: «Не плачь сын. За каждую твою слезу головой вражьей платить будем».
Конец шарфа опять сполз с плеча на грудь, обнажив морщинистую, красноватую шею, но дядя Сёма не замечал этого.
— Что такое жалость и что такое быть человеком? Чтобы по-настоящему полюбить солнечный свет, нужно неделю посидеть в темном погребе. Тот человек был комиссаром. Я решил зайти к нему завтра, чтобы хотя бы сказать ему спасибо. Видишь, иногда хватает нескольких слов, чтобы почувствовать себя человеком.
Он принимал всех в большом доме, где раньше жил помещик. Комиссар давно не спал, о чем говорили его глаза. Он много курил, пепел падал на стол, бумаги. С чем только ни шли к нему люди — у всех было столько забот и печалей. И я, чудак, засовестился отнимать у него время, лишь чтобы сказать спасибо. Я решил прийти на следующий день и поставить на его стол вот эту пепельницу.
Но она осталась у меня. Он уехал куда-то дальше, и я его не застал. Я мог отдать пепельницу любому товарищу в кожаной куртке, но ведь те слова сказал мне именно он. Его звали Васильев. Людей с таким именем много, а вот того забыть не могу.
Дядя Сёма умолк, перебирая кисти шарфа. Потом добавил:
— Мне кажется, что вы запомните мои слова, потому что умеете слушать. А ещё потому, что вас тоже считают чудаком…
Я молчал, потрясенный рассказом дяди Сёмы. В доме было тихо-тихо, лишь было слышно, как легкий ветерок сквозь форточку шевелит края занавески. Луч предвечернего солнца еще раз скользнул по краю пепельницы и погас. За окном сгущалась дневная синева.
Рассказ я написал буквально на одном дыхании. Сотоварищи одобрили мою новеллу и даже, смущая автора, её похвалили. На собрании «Литры» звучали и другие «Пепельницы» с замысловатыми сюжетами, но в большинстве своем они сводились к осуждению курения. Но поскольку на стройке борьба с курением была неактуальна, для публикации в районной газете рекомендовали мой литературный опус.
Тот, кто впервые когда-либо напечатался в газете, помнит, вероятно, неожиданный прилив горделивого чувства собственной важности, что до смешного схоже с тем щенячьим восторгом чеховского героя из рассказа «Радость», прочитавшего газетную заметку о себе, как он, будучи нетрезвым, попал под лошадь извозчика: «Ведь теперь меня знает вся Россия!».
И я (о, святая простота!) скупил тогда в киоске «Союзпечати» изрядную пачку газет со своей «Пепельницей» и гордо зашагал по поселку, искоса поглядывая на прохожих, пытаясь поймать их восторженный взгляд. Но странное дело: все равнодушно проходили мимо и лишь знакомые приветствовали меня по обыкновению кивком головы.

К счастью, гордыня недолго затмевала мне свет, спустя уже неделю всё вернулось в привычное русло: работа, встречи в «Литре», новые сюжеты. Наивные представления о народном интересе к своей «Пепельнице» развеялись окончательно.
Но однажды вечером дежурная тётя Клава, отвечавшая за допуск посторонних в общежитие, передала через кого-то, чтобы я вышел на вахту. Меня ожидал незнакомый пожилой человек в дорогом зимнем пальто и меховой шапке, что было непривычно для обитателей нашей общаги, ходивших преимущественно в брезентовых бушлатах и телогрейках. В руке он держал небольшой чемоданчик с потертыми углами.
— Меламед Юрий Соломонович, — представился гость. — Вы меня, быть может, даже знаете: я работаю заместителем главного бухгалтера стройуправления.
При этих словах строгая тётя Клава, обычно не допускавшая никаких снисхождений к посетителям, подобрела лицом и предложила нам пройти для беседы в красный уголок.
— Можете смеяться надо мной, — начал Юрий Соломонович, — но все эти дни я думал о том граммофоне, что не продал вам жадный старьевщик из вашей «Пепельницы», заломив за него цену дороже Лувра.
— Понимаете, — смущенно пробормотал я, — там ведь речь о герое рассказа, а не обо мне…
— Понимаю, почему не понять, — продолжил гость. — Я, упаси господи, не писатель, но связь между автором и персонажем иногда-таки вижу. Возьмите хотя бы Пушкина и Евгения Онегина. Вы, извините, откуда родом? Из-под Житомира? О чем мы тогда говорим? Так вот, я хочу подарить именно вам граммофон.
Юрий Соломонович поставил на стол потертый чемоданчик и открыл его. Под его крышкой был встроен плоский рупор с блестящей изогнутой трубкой мембраны, а рядом с диском для пластинок читалась надпись: «Артель „Граммофон“, Ленинград». Меламед приладил пластинку, вставил в мембрану маленькую стальную иголку, завел ручкой пружину, и после легкого шороха послышался далекий голос певца: «Осень, прозрачное утро, небо как будто в тумане…».
—Это Вадим Козин, довоенная запись, Ногинский завод грампластинок, — произнес он. — Вот вам в придачу ещё десяток старых пластинок и пакетик граммофонных игл. Изделия редкие, берегите их.
— Юрий Соломонович, вы это всерьез? — изумился я, не веря в происходящее.
— А то что же? Шучу, что ли? Еврея без шуток не бывает, но здесь другой коленкор. Говорят, добрые дела — дороже денег. Только не надо их откладывать на потом. Вот дядя Сёма из вашего рассказа не поспел вовремя поставить комиссару на стол свою пепельницу, а тот взял да уехал. Ваше сочинение, скажу по правде, меня очень тронуло, в нём много честных слов о нашей необъяснимой судьбе. Иные люди, не про нас будет сказано, по бедности ума лишь злословят на этот счет…. Поэтому не стесняйтесь, владейте, ведь вы тогда мечтали купить эту вещь.
И он решительно пододвинул ко мне граммофон.
После ухода Юрия Соломоновича в мою комнату набилось столько народу, что приходилось сидеть на подоконнике и даже на полу. Казалось невероятным, что здесь, в далеком таежном поселке, среди заснеженных сопок звучат, как будто наяву, завораживающие голоса Леонида и Эдит Утёсовых, Клавдии Шульженко, Изабеллы Юрьевой, Ляли Черной, Вадима Козина, Георгия Виноградова… Многие из моих соседей по общежитию слушали их, возможно, впервые.
Я как мог оберегал свой подарок и, уходя на работу, оставлял его под присмотром надежных друзей. С Юрием Соломоновичем виделся потом всего несколько раз в стройуправлении. Он мимоходом улыбался мне в ответ на приветствие. Меламед вскоре уволился и уехал насовсем. Я об этом узнал, к сожалению, поздно и долго потом досадовал, что не расспросил моего дарителя, как и когда попал к нему этот граммофон, у которого, судя по потертым углам, было весьма интересное прошлое.
Но спустя несколько лет история получила неожиданное продолжение. Случилось так, что после публикации «Пепельницы» я стал сотрудничать с газетой, получая иногда редакционные задания. По одному из них меня и фотографа отправили на служебном газике в соседний большой город, чтобы сделать репортаж из пансионата для пожилых людей — эта тема уже волновала многих ветеранов стройки. Граммофон и пластинки, дабы соседи без спроса ими не пользовались, я прихватил с собой.

Директор пансионата, молодая женщина с участливым лицом, радушно показывала свое хозяйство: уютные комнаты, просторную столовую, врачебный кабинет, небольшой парк вокруг здания, а затем пригласила в зал, где постояльцы собрались у телевизора, показывавшего какой-то праздничный эстрадный концерт. «Это мероприятие по программе музыкальной терапии», — шепнула нам директор.
Однако зрители, милые старушки и степенные старики, смотрели на экран молча и безучастно, явно не испытывая душевного подъема от такой «терапии». Но все сразу же оживились, когда директор представила гостей: «Это корреспонденты, из газеты». На нас посыпались вопросы, требования и жалобы: «Разве это песни? Ни мелодии, ни слов, сплошное бесстыдство: гоп-стоп да полуобнаженные девицы», «Вы скажите там, в Москве: такая эстрада действует людям на психику», «Где народные певцы?»…
—Эх, помню, приезжали к нам на фронт артисты, пели «Катюшу», «Синий платочек», — вступил в разговор сухонький старик со скуластым лицом. — А ещё помню: был в нашей части патефон. Всегда заводили его в дни передышки. Даже стихи о нем сочинили: «Принесло судьбою в третий батальон старенький Коломенский походный патефон»…
И тут меня осенило:
— Дорогие ветераны, это важно, подождите, я сейчас, — и бросился во двор к нашей машине.
Через минуту на глазах у всех я уже ставил граммофонную пластинку. Ко мне подошел фронтовик, вспомнивший стихи о батальонном патефоне, и попросил:
— Дозвольте мне, пожалуйста. Я с этой техникой знаком, не подведу.
Вокруг моего граммофона сгрудились все обитатели пансионата. О телевизоре все забыли — одна пластинка сменяла другую. Я смотрел на притихших, задумавшихся людей, которые под любимые полузабытые песни вспоминали, наверное, свою молодость, родительский дом, родные лица…
Перед отъездом пожилые люди окружили нас со всех сторон:
— Будьте так милосердны, оставьте нам проигрыватель хотя бы еще на пару дней. Нет-нет, мы его не повредим, не бойтесь!
Директор вышла нас провожать и предложила:
— Может, вы нам граммофон продадите? Сами видите, как ожили люди. У меня по смете на такие покупки предусмотрены деньги.
Из-за неприкрытой двери была слышна очередная пластинка:
«Hе уходи, еще не спето столько песен,
Еще звенит в гитаре каждая струна...»
«Ах, милый директор», — подумал я и вспомнил Юрия Соломоновича: «Есть вещи дороже денег».
Заглавная иллюстрация: Ванесса Гаврилова











