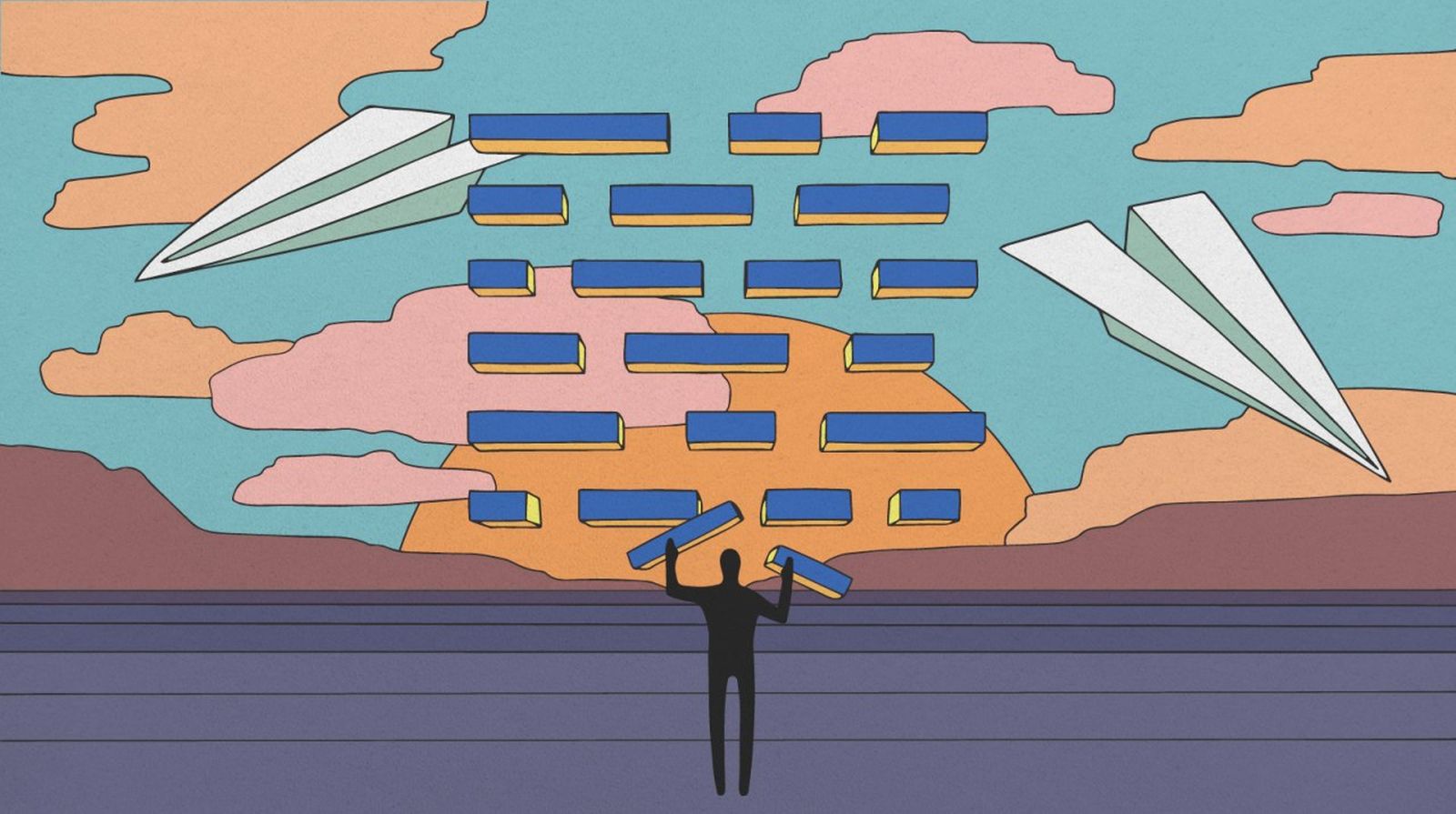Некоммерческий литературный проект «Полёт разборов» уже восемь лет выступает площадкой для дискуссий о современной поэзии, которая помогает авторам находить вдумчивых читателей на теоретических семинарах, объединяющих поэтов и профессиональных критиков. О поэзии в эпоху социальной разобщенности и адаптации литературы к постковидному миру журналистка Анна Аликевич поговорила с московским поэтом, культуртрегером и куратором проекта Борисом Кутенковым.
В интервью поэт рассказывает о том, как погружаться в историю XX века, в чем состоит теория Большой Справедливости, почему метареализму удаётся точнее всего отражать суть мира, из-за чего консервативные поэтические сообщества конфликтуют с талантливыми одиночками, чем первобытный слух неподготовленного читателя лучше тугоухости образованного критика, откуда черпают вдохновение запертые в четырех стенах авторы и какие трагедии порой скрываются за внешним личным благополучием.
Об адаптивности человека, попсе и поэтических травмах
— Борис, последние два года сильно изменили как социальное, так и частное пространство творческого человека. Не тайна, что поэтический мир не только растет изнутри, но и требует какого-то сообщения с внешней реальностью. Можно ли сказать, что ограничения передвижения повлияли на направление и тональность авторского творчества? Многие авторы говорят о том, что контекст актуальных событий, даже если человек умышленно не включается в него, все равно, даже против воли, становится частью его бытия. Изменили ли последние, ковидные, годы образ жизни и творческий вектор автора?
Тут интересно поговорить про изменение мировоззрения и про некоторые личные вещи, с этим связанные. О том, что стало меньше презентаций и поездок, говорить куда менее интересно. Про переход жизни в онлайн — тоже: как выразилась Галина Юзефович в одном интервью, «мне теперь трудно будет объяснить самой себе, почему для решения получасовых рабочих вопросов мне нужно краситься и ехать на другой конец Москвы, — всё это легко решается по Zoom» (цитирую по памяти, но близко к тексту). Увеличение общественной агрессии — факт самоочевидный: Мария Галина назвала это «формированием новой этики», когда людей слишком беспокоит, «кто на кого чихнул». Последнее, на мой взгляд, — страх заражения, как раз и сублимирующийся в агрессию. Про это разными словами сказано уже многими и многажды. Хотя это и есть самые очевидные изменения.
Гораздо важнее подумать о внутренних переменах. Мне, например, в первый период карантина стало казаться, что в принципе можно обойтись без многого и многие вещи взаимозаменяемы. Это поначалу вызывало грусть, потом, по мере адаптации, стало ощущаться как нормальное. Скажем, полгода не было «Полёта разборов»: он важен, но насыщенное чтение, на которое не хватало времени и которое стало серьезным плюсом 2020 года, тоже очень важно. Даже чуть было не сказал «не менее важно», но это такие чаши весов, которые сложно сравнивать. Не было походов в кафе и в спортзал — ну да, тренировок не хватало, но за счет экономии денег удалось, например, скопить на книгу Алексея Сомова — самый сильный, наверное, сборник нашей авторской серии «Поэты литературных чтений „Они ушли. Они остались“». Эти ограничения, само собой, нерадостны, как любая вынужденность. И, разумеется, цинично говорить о каких-то личных приобретениях, когда люди вокруг болеют и умирают.
Но сама адаптивность характера скорее радует: это позволяет думать, что переживешь и другие катаклизмы. Кроме, наверное, переламывающих человека пополам.
Что считаю огромным плюсом — появилось время на неспешную переписку. Причем и с прежними друзьями, и с новыми, от которых, возможно, отмахнулся бы в прежней суете. Так, 2020-й позволил приобрести трех замечательных друзей — и диалог с двумя из них сложился как раз из-за большого количества свободного времени, которое проводил в VK. Ну и — каждая переписка, каждая встреча стала на вес золота, уже невозможно говорить о каком-то пространстве инфляции. Это продолжается до сих пор, так как жизнь не вернулась в тот прежний ритм, что был до марта 2020-го. Сейчас дел не меньше, но перевес ощутимо сдвинулся в сторону «текстового».

Что стало огромным душевным переворотом, который до сих пор не могу как следует осмыслить, — желание вернуться к детским книгам, к себе до (условно) семнадцатилетнего возраста. И с этим возвращением — новое осознание массовой культуры, которую нежно любил тогда. Возможно, это открывшееся пространство какого-то «чистого измерения», в котором не было разговоров об иерархиях, «низком» и «высоком». Таких понятий для подростка просто не существовало. Сериал можно было посмотреть, просто сочувствуя героям. Книги Крапивина или Марининой — прочитать, обливаясь слезами и думая о различии добра и зла, а не о «контексте». Подобное возвращение, наверное, неизбежно происходит с человеком, оставшимся в одиночестве. Литпроцесс как бы отброшен, его не стало по мановению карантинной волшебной палочки, а то, что было дорого в детстве, всегда с тобой.
Прекрасно помню свое состояние, когда наткнулся на стену сонграйтера Димы Лорена в VK — и на восхищенные комментарии по поводу сочиненной им непритязательной песни. Тогда всё пренебрежение к «массовости» ушло куда-то на второй план, стало понятно, что легкая музыка способна утешить и, возможно, принести не менее сильные духовные впечатления, чем наша «сложная» поэзия. Я и сам потребитель легкой музыки, воспринимаю ее другим органом, чем поэзию, беру что-то свое. Возможно, «утаскиваю» из нее эмпатию, которой мне не хватает в профессиональной поэзии. Тогда же появились строфы: «я твой брат, я город просветлённый, встреть меня прозрачным и простым, /, а была ль планета до короны, был огонь ли, если валит дым, / — мало ль говорят — держи покрепче / прежний пепел и — седьмым в отряд / там, где книг оранжевые печи хорошо горят». Про «горение книг» — это ситуативное преувеличение, вызванное отчаянием. Тут важнее современный аналог «Поэта и гражданина», диалог поэта и сонграйтера, когда первый как бы снижает свой «элитарный» пафос в этой «иерархии». Он как бы склоняется перед чужой простотой и просветленностью. «Братство» тут — феномен неочевидный: вспоминаются слова Бродского «мы с Евтушенко представители разных профессий». Стихотворение именно об этом: осознанный жест протянутой руки — в уважении перед той эмпатией, которая способна дать утешение. Жест в сторону «человеческого, слишком человеческого».
— Вы сказали про «отброшенность» литпроцесса — неужели это произошло со всеми?
Разумеется, не со всеми. И даже со мной только отчасти: я продолжал готовить письменные интервью, писать критику, составлять подборки, дистанционно работать над антологией вместе с коллегами… Но отсутствие мероприятий, поездок, встреч как бы уменьшило «ощущение причастности». У тех, кто «вписался» в новую реальность, сразу интегрировался в Zoom, такого острого чувства не было. Я к ним не относился и поначалу оказался в некоторой растерянности. Впрочем, эксперт в области медиа, критик Владимир Козлов той весной на одном из круглых столов отмечал, что литературное сообщество, в отличие от других экспертных сред, не оказалось готовым к наплыву электронных коммуникаций, было самым отстающим.
— В пандемию оказалось, что это сообщающиеся сосуды — домашняя сфера и общественная, и любые перемены в одной касаются и другой. Можно ли назвать положительными те новые форматы, в которые ушло литературно-критическое объединение «Полёт разборов», ранее собиравшееся в библиотеке на Комсомольской, а ныне перешедшее в Zoom, читай, домашний формат? Когда человек теоретически на заседании, а практически пинает под кухонным столом переевшего кота, это обычно создает комический эффект…
Ну, пинание кота проходит незамеченным для всех, кроме самого кота. (Смеётся). И на ход мероприятия обычно никак не влияет.
Если серьезно, сейчас я преодолел робость перед Zoom’ом, более свободно выхожу в него и даже радуюсь виртуальным встречам. Это какое-то особое чувство единения, когда собираются люди из разных городов, стран. За час до мероприятия пишешь о том, что вот, пройдет встреча со мной; приходит группа поддержки — Казахстан, Беларусь, Мордовия, Китай… Именно так, не отходя от домашних компов и смартфонов, «пиная кота»… Нет спору, хочется, чтобы все дорогие люди собрались на общей кухне, но это невозможно. Так что пусть будет так. А чувство «очного» единения не менее радостное, но всё же совсем иное.
«Полёт разборов» проходит в Zoom’е и, кажется, закончил свое «очное» существование. Еще осенью 2020-го, когда Людмила Вязмитинова, видя мою нерешительность перед новым форматом, предложила проводить «Полёты» у нее дома, это казалось невероятным. Но на первой же встрече так вдохновила аудитория до 70 человек — невозможная в библиотеке на Комсомольской, — что я сразу ощутил преимущества онлайна. Увеличение аудитории — очень серьезный фактор, который лично меня не мотивирует возвращаться в «очность». К тому же есть прагматический момент: «живой» «Полёт» — это всегда отдельная оплата видеосъемки (по сравнению с Zoom’ом, где ведется автоматическая запись), а значит, происходит экономия средств. В 2021-м мы провели две «живые» серии проекта для пробы: стало ясно, что критиков и аудиторию уже трудновато заманить. За два часа до мероприятия тебе начинают сваливать на почту письменные рецензии те, кто обещал прийти. А превращать мероприятие в сборник письменных рецензий и видеовыступлений — организаторски не очень приятно. Возможно, ситуация наладится и можно будет проводить смешанные «Полёты» (правда, попробовал — и вижу это неудобным гибридом), но пока прогнозировать сложно. В момент, когда я даю ответы на эти вопросы, омикронные цифры неуклонно растут.
Та же Людмила много сетовала на удаленность от «реальной» жизни, для нее сидение дома за компьютером было неприемлемым, препятствовало общению, которое она считала необходимой составляющей литпроцесса… Я амбиверт, довольно легко приспосабливаюсь к разным средам и ситуациям, для меня общение именно «реальное» не так уж обязательно.
— Не так давно на этих же виртуальных страницах «Дискурса» двое начинающих критиков «левого» направления обвинили «Полёт разборов» в «затянутости» и в том, что он якобы наносит травму автору — мол, слишком много комплиментарного внимания, высказываются сразу шесть экспертов. В комментариях звучали и мнения их сподвижников: так, поэт Катерина Сим выразила точку зрения, что сейчас не имеет смысла разговор от имени конкретного критика с его «мнением», только от имени сообщества или институции. Как бы вы прокомментировали эти высказывания?
Комментировать никак не хочется в силу их абсурдности, но раз уж вы спросили, отвечу.
Травму автору наносит вовсе не «избыточно комплиментарное» внимание — а отсутствие внимания: когда его стихи не читают годами. Обычная история — когда вышедшие стихи просто некому показать. Не говоря уже об отсутствии профессионального взгляда. Автор пишет их, демонстрирует двум-трем знакомым, собирает несколько лайков в социальной сети — и всё. Иногда истерично закидывает ими всех знакомых в личке… Или оставляет манипулятивные комментарии о невнимании к себе: для некоторых это средство регулярного самопиара. Случаи авторского отчаяния разнообразны. Мандельштам, как известно, в воронежской ссылке подбегал к телефонному автомату и читал стихи в трубку городовому, буквально проревев, что ему некому читать стихи. По себе знаю, что это огромная проблема.
«Полёт разборов» выполняет, безусловно, важную задачу преодоления авторского одиночества.
Еще в 2015 году, когда я брал интервью у Ольги Славниковой, мне запомнились ее слова о страшном одиночестве писателя перед чистым листом бумаги и о том, что премия «Дебют» позволяет это состояние преодолеть. Я согласился с ней, но подумал, что не менее страшное — одиночество после написанного стихотворения.
Что внимание обязательно «комплиментарное» — тоже не так, бывает по-разному. Возьмите недавние обсуждения Марины Марьяшиной или Евгения Морозова. Проблему вижу в обратном: в том, что иногда направленность обсуждения вступает в противоречие с организаторским желанием преподнести поэта с лучшей стороны. Но это проблема любой публичной дискуссии, центрированной вокруг разбираемого участника. Выбор здесь всегда вкусовой, а не институциональный, чем и ценен: люблю вытаскивать талантливых одиночек. Горишь любовью к стихам автора, хочешь заразить этой любовью всех — но обсуждение получается совсем не таким положительным. В таких случаях стараюсь разговаривать с автором после мероприятия, выяснить, что ему не понравилось, проанализировать прозвучавшие отзывы и возможные просчеты, в том числе и собственные. И предварительно тоже предупреждаю, чтобы автор был готов к отрицательной критике. Кроме того, изредка бывает, что кто-то, как та же Марьяшина, предлагает подборку самых слабых текстов — желая, чтобы внимание обратили именно на недостатки…
Разговоры про «травматизацию» нелепы еще и потому, что автор часто сам предлагает свое участие, никто его за уши не тащит. В идеале хочется соблюдать баланс между желанием автора (личка у меня ломится от заявок, но, конечно, чаще отказываю) и собственной инициативой приглашения. Многие авторы, которых мне хотелось бы видеть на «Полёте», отказывались именно по психологическим причинам, и я их понимаю. Сам вряд ли бы сейчас решился на публичное обсуждение, накушался в юности. Но непрофессионализм таких разборов как раз и побудил сделать в своем проекте всё по-другому, с акцентом на круге экспертов.

«Затянутость» — ну, достаточно посмотреть, сколько длится обсуждение на форуме молодых писателей в Липках или на совещании Союза писателей Москвы: традиционно это работа с обеда, а то и с 12 часов, и до вечера, иногда позднего. С перерывами, разумеется, как и у нас. У нас были многочасовые обсуждения, сейчас сократили число участников до двух — иногда проводим две серии в месяц, когда можем. Обсуждение длится примерно полтора часа, это не так долго. Так что в целом эти претензии считаю неубедительными: на привязи никто никого не держит, всегда можно отойти, попить чаю, потом вернуться. Можно и прочитать краткую выжимку обсуждения на «Формаслове». Объем подборки — семь стихотворений. Первоначально обсуждали десять, потом решили, что, если уменьшить количество обсуждаемых текстов, это приведет к большей сосредоточенности внимания на конкретном тексте. Однако послышались жалобы, что пять стихотворений — это всё же слишком мало и как раз не позволяет оценить творчество автора. Хотя всегда можно прочитать того же автора в большем объеме в сети: в группе «Полёта разборов» мы даем ссылки на публикации. Постепенно решили остановиться на семи текстах, это идеально.
Ну а «разговор от имени институции» — это просто не про нас. Разумеется, у нас присутствуют представители разных «сообществ», но полностью убирать личность критика и превращать ее в голос институции, как хотят коллеги, — убийственно. Другое дело, что мнение критика «Полёта разборов» — не просто «мнение со стороны»: оно основано на начитанности и хорошем знании поэтического контекста, а значит, профессионально. Кроме того, пути, которые ведут от высказываний на «Полёте» до случаев той же «легитимации», нередки и неизбежны. Критик, познакомившись с автором в рамках «Полёта разборов», приглашает его в свой проект, начинает отмечать его в своих статьях… Таких случаев помню примерно с десяток. Как однажды заметил Валерий Шубинский, критикам «этот проект позволяет знакомиться с широким кругом литературной молодежи, что очень ценно».
Что касается самого Алексея Масалова с его беспочвенными нападками — то создается впечатление, что ему мешает какая-то личная неприязнь (возможно, кто-то настроил его против меня), очень жаль. В 2019 году он, кстати, отмечал мои стихи с положительной стороны в паблике Михаила Бордуновского. Я был бы рад видеть его в качестве эксперта на «Полёте» и уже приглашал, так как выступаю за открытый диалог. Полагаю, что такой его вклад в литературный процесс был бы гораздо более продуктивен, чем комментарии с неконструктивными выпадами. Тем более что круг критиков в «Метажурнале» и «Полёте разборов» нередко пересекается: Юлия Подлубнова, Евгения Ульянкина присутствуют и там и там, невзирая на институции; Андрей Тавров, Александр Скидан, Лев Оборин, Евгений Никитин, Людмила Казарян, в разные годы участвовавшие в «Полёте» как эксперты, интересны и этому кругу, и нам. Авторы журнала «Флаги» и участники проекта «За Стеной» нередко сами предлагали свое участие в проекте, чему я только рад. Сегодня ценно сотрудничество и объединение, а не очерчивание границ.
В общем, мне кажется, на эти пристрастные претензии можно было бы не отвечать, настолько всё очевидно.
О конфликте одиночек с сообществами, литкритике и насущных проблемах авторов
— Про актуальный конфликт литературы недавно сказал в рамках круглого стола журнала «Знамя» Вячеслав Ставецкий: «Возможно, в недалеком будущем у нас появятся сразу две абсолютно непохожие литературы, равнодушные к существованию друг друга. Первую составят всевозможные прогрессисты, верные малейшему движению брови своих идеологов, вторую — те, кто по старинке будут писать всё, что им вздумается. Прожектор будет долго направлен на первых. Но для вторых это по-своему хорошая новость: всегда интереснее жить в борьбе, чем при абсолютном штиле. Только так есть шанс сказать что-то по-настоящему важное. Словом, если обобщить, все будет примерно как всегда: извечный конфликт между парадной идеологией эпохи и некоторым количеством тех, кто не пожелает вписываться в ее рамки». Согласны ли вы с этим? Можно ли отнести это к вашим оппонентам?
Совершенно верно. Есть проекты, созданные как инструмент легитимации уже существующих сообществ — с нюансировкой реалий, уже заданных их кураторами, и переделом влияния; есть — просто вытаскивающие живое из потока и направляющие на него фокус внимания, а затем оно, как всякая жизнь, пойдет непредсказуемой дорогой. И это будет дорога личности, а не сообщества. Мы на «Полёте разборов» не боремся за сферу влияния или иерархию. Путь этот, возможно, не самый прагматичный (на фоне тех, кто озабочен разделом литпроцесса), но мне единственно близкий.
— Вернемся к изменениям формата. Любой автор с постоянной аудиторией не может не ощущать изменений при переходе от реальных слушателей к виртуальному сообществу. Едва ли уместно говорить об авторском культе и фанатском движении — скорее речь о поклонниках определенного рода творчества в целом — но как отразился преимущественно виртуальный формат общения (группы VK, Zoom, чаты, рассылка, переписки) на качестве и количестве поэтической аудитории?
Качество экспертных мнений после перехода в онлайн, мне кажется, улучшилось. Многих критиков, которых я ранее перечислял, на «очные» мероприятия пригласить не удавалось — одних в силу географической удаленности, других из-за нехватки времени (проблема, которую возможность выйти в онлайн если не снимает, то минимизирует). Постоянным экспертом проекта стала Ирина Чуднова, поэт и филолог из Китая, — пока не очень заметная как поэтический критик, но умно и тонко чувствующая стихи. Можно услышать «вживую» — насколько возможно это слово в таком контексте — Ростислава Амелина, Данилу Давыдова, Евгения Абдуллаева. Это помимо других постоянных критиков проекта, которые и до этого либо присылали письменные рецензии, либо приходили на очные мероприятия, — из тех, кого я не перечислил, это Александр Марков, Юрий Казарин, Валерия Исмиева, Алексей Колесниченко, Надя Делаланд и многие другие. Не говоря уже о том, что увеличилось количество иногородних обсуждаемых авторов. Очередь выстраивается на месяцы, глаза разбегаются от множества тех, кого хочется пригласить, — но, разумеется, в такой ситуации «избытка» особенно необходим жесткий и осознанный выбор.

Приглашать в Zoom стало можно, также не думая о том, в Москве находится человек или в другом регионе. Раньше этот вопрос вставал со всей остротой. Сейчас рассылки в основном персональные, среди постоянных слушателей «Полёта» и тех, кто может прийти: так наиболее действенно. Чаты играют роль своеобразной «курилки». Удобство — и в том, что «неудобному» человеку, агрессору можно отключить микрофон, тогда как вывести такого типа из зала было бы затруднительно. Минус — в невозможности живого соприсутствия, ощущения шелеста страниц подборки и живого голоса критика или поэта. И в потере той аудитории, которая любила ходить на очные мероприятия и категорически не приемлет онлайн. Но не могу сказать, насколько такая потеря статистически велика: думаю, при желании эти люди могли бы преодолеть свое нежелание, извините за тавтологию. К тому же те, кто не приходит на Zoom-конференцию, — смотрят видеозаписи и читают упомянутые мной стенограммы мероприятий на «Формаслове», да и просто подборки у меня на стене и в группе мероприятия. Форматы общения с аудиторией и продвижения интересных авторов велики и многообразны, не всегда эта реакция вербализуема.
Если говорить о содержательной стороне, то «Полёт» существенно сдвинулся в сторону молодых авторов. При этом наш проект не позиционирует себя как специально предназначенный для них. В роли разбираемых в разные годы были Ольга Сульчинская, Катя Капович, Инга Кузнецова, Александр Переверзин, Амарсана Улзытуев, Дмитрий Гаричев (последний дважды), Ганна Шевченко, Евгений Никитин и многие другие… Это площадка для обсуждения тех современных стихов, о которых интересно поговорить вне зависимости от возраста автора. Возможно, это понимание пришло после одной рецензии Юлии Подлубновой, где она отметила, что «многие из участвующих в „Полёте“ не то чтобы состоявшиеся, но с оформившимся лицом». Но и появление за последние года два немалого количества авторов условно поколения «двадцатилетних» как-то позволяет понять, что обсуждения нужны им — возможно, в первую очередь.

Огромным событием для меня стало общение с поэтом Евгением Мартыновым: в свои 18 лет человек пишет не только абсолютно зрелые стихи, но и глубокую эссеистику о поэзии, и демонстрирует пугающий уровень рефлексии — и над собой, и над литературой. Или группа «бутырская школа» в VK — нынешние студенты Литинститута… Нескольких таких авторов я упомянул в своей подборке «15 лучших дебютантов 2021 года», планирую готовить такие подборки ежегодно: при этом количество авторов, конечно, может разниться. Эстетические векторы разнообразны, но все же ценю «высокий модернизм» и верность силлабо-тонической традиции, новаторскую работу в рамках традиционного стиха. Но когда сталкиваешься с поэтическим чудом, об этом не думаешь, просто реагируешь на «живое».
С другой стороны, перемены в общественной сфере — ее редукция, умаление — приводят подчас к неловким гибридам, как например попытки работать с маленькими детьми в Zoom-формате, к чему они просто еще не готовы. Одновременно возникают сложности, о которых не принято говорить вслух: счастье, если человек является единственным членом своей семьи и располагает пространством и временем, в том числе виртуальным, без ограничений; но чаще всего ситуация иная, и если бабушка, условно говоря, не заперта в кладовке и дети не ютятся на балконе, сложно провести не только удаленную конференцию, но и краткую летучку в не отведенном для этого месте. Существуют ли эти насущные проблемы у автора и если да, как он их решает?
Едет к друзьям, которые заранее организовали конференцию и куда лучше обращаются с Zoom’ом, чем он. Для меня это Ника Третьяк и Ростислав Русаков. И вместе проводить мероприятие веселее, и распределение усилий получается равномерное. На мне — сама «творческая» часть процесса, рассылки, выбор авторов и критиков. На моих друзьях — организация конференции, удобное пространство, монтаж видео, ведение мероприятия вместе. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить и Нику, и Ростислава за те усилия, которые они вкладывают в проект. Воистину, одна голова хорошо, а три лучше. (Смеётся). Присутствие нового человека, такого как Ника Третьяк, к тому же позволяет взглянуть на проект «изнутри»: у меня все же за восемь лет его ведения выработалась некоторая инерция, консерватизм. Человек, который видит проект как бы «с нуля», настроен не столь патриотично, и это в плюс общему делу. Сердцем хочется оставить всё по-прежнему. А умом понимаешь, что система, которая долгое время не обновляется, рано или поздно приходит в состояние стагнации. И поэтому слушаешь советы со стороны — если они не ведут к кардинальному перевороту.
— Не секрет, что уважение и приятие со стороны окружающих хоть и не является залогом творческого успеха, но весьма ему способствует. Вспомним Шилейко, который пускал рукописи своей «августейшей супруги» на растопку самовара, не удивительно, что в этом браке было написано крайне мало. С другой стороны, вспомним Чуковского: сегодня забавно думать, с каким благоговением домашние относились к запершемуся в сарае отцу семейства, создающему своего «Тараканище»… Как обстоит с приятием близкими поэтического опыта автора? Имеет ли это влияние на сам процесс создания произведений и даже на их содержание?
С «приятием близкими поэтического опыта» — никак не обстоит, то есть его, приятия, нет. Всё, что не конвертируется в деньги, для моих родственников не имеет значения. Естественный вопрос, когда выходит мое интервью или книга, — «а тебе за это заплатили?». Это проблема тех, кто рос в нелитературоцентричных семьях. Не уверен, только ли здесь дело в литературоцентризме — возможно, и в поколенческом факторе тоже. Для людей, родившихся в советскую эпоху, привычна классическая модель взаимоотношений писателя и читателя. Писатель пишет книжки, они издаются большими тиражами, это успех; с читателями видишься на встречах в книжных магазинах… Поездки — ни в коем случае не за свой счет. Красивая модель, по которой и я немного скучаю, так как верил именно в нее до своих семнадцати. Особенно скучаю, когда наблюдаю зависимость современного автора от «литпроцесса» и «тусовки», где профессиональное сообщество сплошь и рядом не оправдывает себя.
Разумеется, сейчас такой образ жизни могут вести очень немногие. Если речь о поэте, то единственный «нестыдный» автор в этом смысле — Вера Полозкова; с прозой дела немного получше, но все равно — либо речь о представителях массовой культуры, либо о нескольких «топовых» авторах из числа серьезных. Всё это моему отцу, например, невозможно внушить: утопическое представление о литературе в не предназначенных для нее обстоятельствах — стена, оно непробиваемо. Поэтому лучше не вести диалог. Хотя у философа Михаила Эпштейна есть мысль, что высшая доблесть — как раз прийти со «своим», с «творческим», к далеким от этого родственникам, занятым бытом…
Впрочем, современный поэт Ростислав Амелин рассказывал о противоположном опыте — что он вырос в литературоцентричной семье и как раз это вызывает желание как-то абстрагироваться от опыта отца, который тоже известный поэт. В общем, в каждой избушке свои погремушки. И уж точно — та или иная семейная ситуация не может быть априорно плоха или хороша для творчества, всё дело в ее индивидуальном переживании. Любое остро переживаемое непонимание не может не отразиться в стихах, и мои — не исключение, оттого так много слов «мать» и «отец».
— Вплотную к рабочим нюансам подходят и сложности творческого процесса. Не секрет, что Мандельштам не мог «делать это» в присутствии даже своей супруги, такая же проблема была и у Пушкина, которого жена призывала «спать, как все нормальные люди, по ночам», а вот для антагонистических гениев Есенина и Маяковского такая трудность якобы не существовала в принципе: Последний, по легенде, обожал работать под шум и гам людского моря, а первый уподоблял себя «корове, в которой само собой рождается незримо для окружающих молоко». Лишенный избыточного пространства вынужденными ограничениями, помещенный в свои четыре или восемь стен, как решает эту проблему современный автор?
По поводу процесса создания — стихи я пишу вне дома, в периоды поездок, поэтому такого вопроса не встает. То, что стихотворение минует рукописную стадию и переносится из телефона сразу в компьютер, спасает от вопроса «растопки рукописей». (Смеётся). Чувствую, когда могут родиться стихи, когда возникает такая внутренняя необходимость, и «урываю» для этого дни полного одиночества. В такие дни я работаю за безынтернетным компьютером, разговариваю только по телефону, много читаю…
Пишу всегда по ночам. Удавшееся стихотворение чувствую с первых аккордов, это наработано годами многописания, что-то сродни профессионализму — доверие к своей интуиции, которая никогда не обманывает.
А если чувствую, что не получается, довольно быстро забрасываю, стараюсь не мучиться: из мучений никогда ничего хорошего не выходит. Легко и с удовольствием воспринимается то, что легко пишется. Это понимание тоже пришло не сразу: в литинститутские годы осознавал необходимость количества — возможно, из-за самой специфики обучения, когда нужно было сдавать подборку раз в семестр… Не могу сказать, что этот «количественный» фактор совсем ушел. Все-таки хорошо, что осталось какое-то ощущение внутреннего долга — мол, должен написать столько-то за год: оно позволяет стимулировать процесс, не атрофировать поэтические мускулы… Но и перерывы тоже необходимы — после них пишется с особенным рвением и чувством голода.
О метареализме, эстетике стихов и мейнстриме
Существуют поэты, персонажи которых являются их alter-ego, и они этого не скрывают, например Селин или Ахматова, которая даже, вводя героиню Глебову-Судейкину в «Поэму без героя», указывала, что это ее лирический двойник. Однако ваши книги представляются густонаселенными, речь не о двойниках, а о целом городе прошлого и будущего. Это канонично, когда лирик обращается в своем творчестве к кумиру, собрату или посвящает стансы актрисе: так, Есенин мог обращаться к Пушкину, взывать к Клюеву и ставить обращение к Миклашевской. Но здесь речь о другом — лирический герой существует в таком межличностном пространстве, словно все эти образы часть него, и все они связаны в единую ткань (там присутствуют Цветаева, Рильке, Хемингуэй, Пессоа, Ахматова, Земфира, Киркоров, Блок, Горбачев и т. д., и т. д.). Вы ощущаете себя существующим в пространственно-временном контексте современной европейской, российской, групповой поэзии? Как бы вы определили свое окружение, принадлежность?
Конечно, ощущаю. На семинарах в Литинституте Игорь Леонидович Волгин говорил нам такую фразу: «Вы должны выбирать себе в соперники Пушкина и Мандельштама, а не соседей по семинару». Разумеется, это — не про зависть, а про амбициозность, про необходимость задать себе высокую планку. Впрочем, когда восхищаешься творчеством автора одного с тобой поколения, это ничуть не хуже: пути достижения цели в поэзии неисповедимы, оценивается только результат. На презентации моей книги «память so true» поэт Надя Делаланд сказала о «нуминозном образе говорения за очень многих мертвых и живых поэтов, многоротом, многоголосом, полифоническом месседже». Многочисленные отсылки в этих текстах — это не «литературность» или не отсутствие своего слова, как может показаться недальновидному взгляду, а именно такой род говорения. В каком-то смысле это и необходимость задать высокую планку и для самого читателя, поиск идеального реципиента (возможно, утопический). Тот, кто увидит эти пароли, почувствует их «своими», тот и будет истинно «твоим» читателем, он же и соавтор. Как говорится, проиграть — так миллион.
Принадлежность? Метареализм. Думаю, что это больше, чем просто термин Михаила Эпштейна, породивший множество споров, и не просто течение в поэзии. Конечно, поэзия Ивана Жданова очень близка мне. Как и Ольги Седаковой, которую причисляли к метареализму в начале ее творческого пути. Любые «измы» — чрезвычайная условность, Бродский на разговоры о них отвечал: Isms are isn’ts. В 2012 году Людмила Вязмитинова в предисловии к моей книге «Неразрешенные вещи» причислила меня к этому течению, я скорее поморщился, это показалось скучным надеванием литературоведческой шапочки. С годами оценил ее проницательность.
Метареализм — это мировоззрение: ощущение непрерывной контекстуальности мира, его многочисленных взаимосвязей, проходящих через тебя.
Такой подход наилучшим образом отражает суть мира, находящегося в постоянном диалоге взаимоотражений. И не всегда можно заметить, где «аукается» тот или иной твой поступок, где всё переходит во всё, в итоге можно говорить о целостной теории Большой Справедливости.
Чрезвычайная смешанность и богатство лексических пластов в вашем творчестве выводит на мысль о другом, очень непохожем поэте Серебряного века, также обладавшем огромным словарем — это Клюев. Бросается в глаза синтез ненормативных выражений с устаревшими усеченными прилагательными или просторечиями (однова, пестуй, гудёт, не вем), неологизмы (светоёмко, сам-тишина), соседствуют с миллениальным сленгом (дедлайн, мудак, планшет, эйджизм, литпроцесс, невъебенный и пр.), традиционная поэтическая лексика попадает в непривычные словесные ряды. Желает ли автор таким образом показать эклектику современного мира, его осколочность и смешение всего, или причина в другом, в органической потребности: «поэт орудие языка»?
Про Клюева никогда не думал. Его влияние как-то прошло мимо меня. Но сравнение неожиданное, и значит, это повод перечитать.
Что касается «желает» или «не желает» — чем больше автор (по крайней мере, автор моего типа) просто позволяет быть Слову, тем лучше. То, что вы назвали «миллениальным сленгом» или «ненормативными выражениями», — просто богатство речи. Эти слова, как всё в мире, существуют только внутри контекста и вне его не оцениваются: взвешивать количество употреблений той или иной лексики, как на аптекарских весах, было бы странно. Слова Бродского мне представляются хрестоматийными и бесспорными: это уже та банальность, которая перерастает себя и становится истиной. Но вы правы, «эклектика современного мира», «осколочность и смешение всего» — это очень про меня.

То, что называется многосмысленностью, одновременно является и затемненностью смысла. Многие ваши тексты имеют сложный сюжет и напоминают речи пифии, ибо их можно понять и так, и иначе (не понять вообще). Считаете ли вы эстетику и музыку стиха преобладающими над его содержанием, или же сами видите свое творчество как достаточно внятное, проблема в тугоухости среднего читателя?
Не то чтобы считаю, а просто не выделяю содержание как отдельную категорию вообще. Что такое это «содержание»? Попытка вычленить смысл стихотворения, пересказать его? О неуместности такой операции рассказывают еще на ранних курсах стиховедения в Литинституте. Тем не менее читатели, даже имеющие статус профессиональных, раз за разом жалуются на «сложность» и «невнятность», требуют пересказуемости. Это не касается в их представлении поздних стихов Мандельштама или поэзии Хлебникова: более того, как только приведешь эти очевидные примеры, они начинают впадать в пиетет перед классиками. И правда, «Воронежские тетради» ведь уже одобрены мировым сообществом. В таком пиетете перед классиками и нападках на современных авторов мне видится лицемерие: как сказала любимая мной Лидия Гинзбург, «классики — это своего рода начальство, о них принято говорить подхалимским тоном».
Что касается читателя — нет такой категории «средний». Ты либо не попал в профессиональную среду и не обладаешь соответствующими знаниями, тогда это простительная девственность, — либо попал в нее, и если продолжаешь упорствовать в отстаивании «простоты», тогда это уже проявление культурной невменяемости. Но в моей практике были случаи, когда тугоухость проявляли именно читатели, обладающие институциональным статусом. Они уверяли, что «двойственность прочтения запутывает читателя», что «надо стремиться к ясности смысла». В то же время начинающие авторы, которые сидели на том же семинаре, говорили примерно следующее: «Это стихотворение заставило меня плакать», «Я далеко не всё поняла, но я приду домой и перечитаю это стихотворение еще раз», «Я не дошла до смысла, но я заворожена музыкой стиха». Отчего бы не стремиться к такому пониманию — даже при отсутствии филологических знаний?
И что ценнее — глухота образованного человека, настаивающего на сложившейся системе оценок, или обостренное внимание первобытного слуха? Доверие выше понимания. В конце концов, такая сопричастность искусству и выдает будущего критика или просто благодарного читателя поэзии.
А затем эту способность можно развивать или не развивать. Но она ценна уже сама по себе. Сопричастность эта противоположна скепсису или всеотрицанию, которые обычно и ассоциируют с критической «профпригодностью».
К вопросу о музыке — конечно, поэзия явление прежде всего фонетическое, акустическое. Стихи того же Мандельштама, по слову Дмитрия Воденникова, «перекатываешь как виноградину под языком». Поэтому — да, музыка невероятно важна. Кстати, возвращаясь к разговору о песнях: мало кто разделяет мое отношение к ним. Казалось бы, очевидно, что в истинном стихотворении уже есть всё, оно самодостаточно, оно есть музыка само по себе. Но развитый вкус при этом требует, чтобы и в песне был хороший текст. Я же всегда чувствую здесь некоторый перевес: на музыку легче всего ложится простоватый текст с умеренным налетом пошлости. Такая композиция воспринимается принципиально иными вкусовыми рецепторами, чем «хорошая» песня, классическая музыка или профессиональная поэзия. Происходит движение в сторону чистой эмоциональности. И здорово — но редко встречается — когда эти способы восприятия сосуществуют в одном человеке.
Так уж сложилось исторически, что наша большая литературная традиция (кроме соцреалистической, возможно) весьма минорная: страдания ощутимо преобладают над жизнеутверждением. Человек то маленький, то лишний, то угнетенный крепостным правом, то борющийся за призрак счастья в вихре революций, то пребывающий несправедливо осужденным в лагере… Однако современный образ городского, «цивилизованного» обывателя ощутимо отличается. Он проснулся в своей комфортной квартире с отоплением, выпил кофе и поехал на метро в офис, дома ждет его чихуа-хуа и пицца из доставки, а в офисе он занимается своей не особо физически обременительной и душевно выматывающей деятельностью. Чтобы найти какую-то масштабную трагедию, ему следует обратиться к былым эпохам или угнетенным племенам. Не кажется ли вам, что таким образом всё больше отрывается продолжение «культурно-литературного» контекста от «простого человека, который съел гамбургер и пошел играть в айфон»? Не становится ли «большая литература» искусством «для избранных», все более сужая этот круг, хотя формально это попытки продолжать «классический мейнстрим»?
Трагедия человека, который «съел гамбургер и пошел играть в айфон», может быть не менее сильной, чем у «представителя угнетенного племени». И мы зачастую о ней не знаем. Внешнее благополучие ничего не значит. Но следует помнить, что важна все-таки не трагедия как биографический факт — она может и не отразиться в искусстве — а ее индивидуальное преломление.
Сила впечатляемости в итоге и составляет 60 процентов дара, где-то 40 делят между собой начитанность и версификация.
И если эта впечатляемость велика, то боль от гвоздя в сапоге может быть более ощутимой, чем фантазия у Гёте. Но в любом случае процессы сочинительства и последующей обратной связи довольно жестко разведены: ломать себя в угоду читателю было бы самым худшим. А потом уже начинаются мысли о «мейнстриме» или «немейнстриме».
Кстати, понятие «мейнстрима» — очень условное в ситуации информационного разобщения. В своей статье 2018 года «На обочине двух мейнстримов» я выделял два имитационных вектора современной поэзии. Один — стихи, тяготеющие к копиизму реальности, к биографизму, вещности детали, наглядности впечатлений. Другой — сознательно ориентированный на нормативную эстетику условно «филологического» круга (здесь всё гораздо более сложно — так как этот автор априори рефлексивен и погружен в пространство культуры, в отличие от автора первого типа). А всё живое и подлинное возникает именно вне векторов, тенденций, флангов. Такой автор может тихо писать в стол и никогда не проявляться, быть незаметным в соцсетях, негромко и жадно вбирать поэзию разных эпох; может и абстрагироваться от современной поэзии и вовсе не найти в ней «своего», я такие случаи знаю, дистанция бывает плодотворной. Но, появившись, для внимательного культуртрегера он сметает все разговоры об «иерархиях» и «мейнстриме», показывает условность этих категорий. Не устаю цитировать строки Юрия Кузнецова: «На высоте твой звездный час, / А мой — на глубине, / И глубина еще не раз / Напомнит обо мне». «Высота звездного часа», то бишь поверхность, мода, популярность в соцсетях — то, что находится в весьма опосредованной связи с движением литературы (я бы жестко отделил это понятие от «движения литпроцесса»).
Кто бы что ни говорил, для обычного человека стремиться туда, где «тепло и светло» — нормально. Но лирический герой у вас постоянно сменяет наш современный пространственно-временной континуум на настоящий XX век, попадая то в мрачные миры Шаламова, то в эпоху поздней Цветаевой, то в общество блокадных призраков, то в сталинский застенок… Путешествие во времени — поэтическая традиция, но места, выбираемые автором, оставляют много вопросов. Автору некомфортно в его эпохе, он бежит благополучия и «мелких проблем бытия», обращаясь к «великому прошлому»? Или это ощущение себя несовременником своей собственной жизни, поиск близкого условного собеседника и событий в прежних эпохах? Может быть, реальность кажется автору недостаточно значимой, трагической и способной раскрыть фундаментальные вопросы бытия?
Интересный вопрос. Велик соблазн ответить, что, мол, задумываться об этом — дело литературоведов, а не автора: так и отреагировали бы большинство моих коллег. Но я почему-то никогда не стеснялся объяснять собственные стихи. Если это связано не с агрессивным непониманием, а с искренним желанием достучаться, то вызывает у меня только благодарность. Такие ответы помогают и самому автору лучше понять себя, уточнить для себя некоторые «внутренние» формулировки (особенно учитывая профетическую природу лирики) — и, возможно, помогают читателю преодолеть те же стереотипы типа «сложность» и «невнятность». Понять, что за любым стихотворением стоит биографическая реальность, которая получает именно такую трансформацию. Не ради искусственности, не ради авторского вставания в позу, — а потому что это обогащенный образ реальности, противоположный копиизму.
«Путешествия во времени» — думаю, те же пароли, помогающие найти Идеального Читателя, о котором я сказал ранее. Это разворачивание поэтического пространства в сторону литературоцентризма, общего и для тебя, и для читателя. В таких случаях «колымский свет» — не просто «мир Шаламова», это цепь ассоциаций, которая получает отражение в стихотворении — и как-то связана и с эстетикой стихотворения, и с биографией Шаламова, и с чем-то большим. Например, стихотворение, где преобладал образ Варлама Тихоновича, я писал в Вологде, в 20 минутах ходьбы от его дома. Тогда же — по совпадению — читал «Четвертую Вологду», и захотелось побывать в его доме-музее. Удивительное чувство близости — при разумеющейся дальности! В этом стихотворении появились слова о потомках, как бы не «выдерживающих» этот уровень поэтической биографии; о времени, которое не располагает к «громкой» биографии поэта. Об условности наших личных трагедий, о преемственности и много о чем еще. Разумеется, это только часть возможного многообразия интерпретаций. Но — подчеркиваю — изначально стихотворение не было «о чем-то»: образ Шаламова в нем был зыбкий, но я уже изначально знал, что он будет присутствовать. А вот как развернется образ — это самая большая интрига стихотворения.
Какие именно эпохи у меня чаще всего упоминаются, я не подсчитывал. Но ваше наблюдение страшно интересное. И, раз вы считаете, что в приоритете XX век, причем в его «лагерной» составляющей, то, возможно, это связано с моим кругом чтения. Действительно, нон-фикшн в диапазоне от тридцатых до шестидесятых — то, что меня вдохновляет. Когда читаешь об истинных травлях (например, исключениях из Союза писателей в интерпретации Лидии Чуковской) — современные нападки в фейсбуке кажутся смешными и несерьезными. Когда изучаешь «Крутой маршрут», «Записки об Анне Ахматовой» или многотомник Бенедикта Сарнова «Сталин и писатели», — возникает образ Большого Времени и Большой Этики. Можно ли представить себе, например, чтобы Ахматова писала то, что пишут современные культуртрегеры на фейсбуке, разговаривала таким языком? И как бы она отреагировала на происходящее в тех же соцсетях? Это — в моем случае — не презрительный пассеизм из серии «мы попали не в то время», а просто осознание этического ориентира. Даже если эти образы, возможно, идеализированы — как часто бывает с биографиями. Тут можно вспомнить вольтеровскую максиму: «Если бы бога не было, его следовало бы выдумать». То есть — возникают плодотворные иллюзии в отношении личности, этики, которые и тебя заставляют двигаться словно бы в новых разрезах. Очищают. Но это противопоставления, а параллели бывают не менее интересными. Или даже не параллели, а само понимание истории литературы, ее движения — от того дня к сегодняшнему. И все же — уверен, что где-то существует другая интерпретация всего, о чем вы сказали. Которая и мне откроет что-то новое.