Роман «Макунаима, герой, у которого нет характера» ярчайшего латиноамериканского модерниста Мариу ди Андради впервые издали в 1928 году, через несколько лет после обретения Бразилией национальной независимости от Португалии. В нем бразильский писатель отразил колониальное прошлое и его связь с современностью, образ «другого» в европоцентричном дискурсе и репрезентацию национальной идентичности.
Как Мариу ди Андради — с помощью иррационального юмора, фольклорных мотивов, модернистской эстетики и культурного наследия бразильцев разного этнического происхождения — удается показать сложную и противоречивую историю своей страны, рассказывает филолог Арина Коконова. В материале подробно разбирается: как «людоедство» может нивелировать власть колониального нарратива, какие источники лежат в основе образа Макунаимы и в чем заключена его противоречивость, как магия связана с выражением протеста и субъектности и каким образом через мотив преображения писатель демонстрирует бразильскую самость.
Роман «Макунаима, герой, у которого нет характера» бразильского писателя-модерниста Мариу ди Андради (1893–1945) впервые издали в 1928 году, спустя шесть лет после Недели современного искусства. Проходила она в феврале 1922 года в Муниципальном театре (Сан-Паулу) в честь обретения Бразилией национальной независимости от Португалии. Тогда тема национального самоопределения, создание нового (литературного) языка занимали центральное место в творчестве бразильских авторов.
«Макунаима» стал не только уникальным модернистским произведением 1920-х годов, но и попыткой писателя ответить на вопрос «Что значит быть бразильцем?».
Сюжет романа, на первый взгляд, прост. Это линейное повествование о жизни главного героя от рождения до смерти (а смерти ли?). Бразильский вариант истории о путешествии из одной среды в другую и возвращении обратно. Этим «Макунаима» похож на другие произведения, что строятся по такому же принципу, например, на «Аргонавтику» А. Родосского, «Вокруг света за 80 дней» Ж. Верна или «Хоббита, или Туда и обратно» Джона. Р. Р. Толкина. Важно при этом упомянуть, что культурные и исторические рамки здесь зачастую размыты, поэтому возникает ощущение безвременья.
Путь Макунаимы очень непростой и захватывающий. Прежде чем покинуть индейскую деревню племени тапаньюмас, он сталкивается с довольно пугающей реальностью — мир не самое безопасное место. Например, есть риск стать обедом людоеда, в деревне можно умереть от голода. Или ненароком убить свою мать, пронзив ее стрелой во время охоты. И это только меньшая часть проблем, с которыми Макунаима сталкивается.
В центре произведения знакомый сюжет — поиск артефакта. Им в романе является амулет муйракитан — подарок девы Си, возлюбленной героя и Матери Лесов.
Когда его забирает купец Венцеслав Пьетро Пьетра (он же великан Пьяйман) и уезжает в Сан-Паулу, протагонист отправляется за ним, чтобы отомстить и вернуть украденное. Амулет символизирует связь между двумя мирами — земным и небесным, является важным напоминанием об амазонском лесе и индейской культуре, частью которой главный герой является. Поэтому так важно муйракитан вернуть. Ради этого Макунаима отправляется в город, постигает особенности индустриального мира и неоднократно противостоит персонажам из бразильского фольклора.
О героях-людоедах и антропофагии
Говоря о специфике произведения, едва ли возможно забыть о людоедах. Главный герой неоднократно сталкивался с персонажами, которые не прочь скушать человека.
Примечательным персонажем-людоедом является Куррупира — мифический карлик с рыжими волосами, который пугает охотников и сбивает их с пути. Запутать он пытался и Макунаиму, указав ему неправильную дорогу до деревни. Когда выясняется, что шалость не удалась, Куррупира отправляется за главным героем в погоню верхом на олене, но остается по итогу без добычи.
Однако Мариу ди Андради больше акцентирует внимание на другом любителе человеческой плоти. На главном антагонисте, в котором сливаются две, на первый взгляд, не очень совместимые грани — купец Венцеслав Пьетро Пьетра и великан Пьяйман. Персонаж этот известен как коллекционер драгоценных камней, поэтому неудивительно, что он забирает муйракитан (зеленый камень). Эта его страсть соседствует с людоедством — Пьяйман без проблем может схватить человека и приготовить из него соус для макарон. Вероятно, антагониста стоит рассматривать как аллегорию на европейских иммигрантов, которые эксплуатировали природные богатства Бразилии, не считаясь с интересами коренного населения.
Победа Макунаимы над ним, таким образом, символически уничтожает господство колониальной оптики над Бразилией как над страной, за счет которой можно бесконечно наживаться.
С гастрономическим интересом на главного героя поглядывает и жена Пьяймана — старуха-каапора Сеюси. Выловив его сетью в реке, она сразу же спешит домой — огонь сам себя не разведет. Эта часть истории напоминает сказку «Гуси-лебеди»: Макунаима сбегает от людоедки, бежит по всей стране, пока Сеюси на тапире за ним гонится, неоднократно просит убежище (у священников, кобры, даже улетает на птице-самолете туйюйю) и оставляет преследовательницу без сытной еды.
Почему Мариу ди Андради акцентирует внимание на людоедстве? Это не только важная часть сюжета, связанная с угрозой для жизни главного героя, но и часть авторской позиции. Здесь стоит рассказать об антропофагии — «ритуальном людоедстве». Каннибализм отличается от него тем, что является частью повседневной жизни. Ритуальное же поедание человеческой плоти — важное символическое действо: пожираешь врага — получаешь его силу. В качестве метафоры новой бразильской литературы оно представлено в «Манифесте антропофагии» (1928) Освалда ди Андради, однофамильца автора:
«…Антропофагия. Постоянное превращение табу в тотем.
Против мира, которым можно вертеть, и опредмеченных идей. Превращенных в труп. Стопорящих подвижную мысль. Делающих личность жертвой системы. Источник классических несправедливостей. Романтических несправедливостей. И забвения внутренних завоеваний».
Как литературное движение антропофагия не связана с отказом от всего европейского.
Напротив, европейское наследие «поедается», становится частью бразильской литературы, которая за счет такой духовной пищи только крепнет, как организм, что получает питательные вещества.
Однако О. ди Андради выступал против различных проявлений европоцентризма и колониализма в культуре, против «всех импортеров консервированного знания», католичества и античного наследия, европейской науки. Прогресс европейского общества он видел в развитии технологий: «Фиксация прогресса с помощью каталогов и телевизионных аппаратов. Только машины. И аппараты переливания крови».
Противоречивое отношение создателя манифеста к культуре символизирует карнавал. Когда индеец играет роль сенатора, он не становится последним, лишь притворяется.
Пародируя его речь, манеры, иногда даже мышление, он на время переворачивает мир вверх дном, стирает привычные границы между людьми, сводит на нет иерархические отношения, в том числе между подавляющим и подавляемым.
Как писал М. М. Бахтин, карнавальный смех универсален и всенароден. Прелесть его и в том, что направлен он «на все и всех (в том числе и на самих участников карнавала), весь мир представляется смешным».

«Макунаима» любопытен прежде всего как отражение этой философии. Роман представляет собой насыщенную смесь из разных культур: афробразильской, индейской, христианской. Все они в романе важны. Мариу ди Андради с элементами доминирующей культуры обходится играючи — он одновременно их воспроизводит и имитирует, высмеивает и оспаривает. Над Макунаимой как над бразильским героем он посмеивается не менее охотно.
Каким образом писатель всё это делает? Разберу на примере девятой главы, поскольку стилистически она, на мой взгляд, замечательно иллюстрирует сказанное.
«Письмо к Икамиабам» как пародия на доминирующие нарративы
Эта часть произведения разительно отличается от других глав и представляет собой письмо (очень предсказуемо, знаю) главного героя, своеобразную пародию на этнологическое исследование и устоявшиеся в европейской культуре клише.
Императором Макунаима стал в Девственном лесу, еще до прибытия в Сан-Паулу, но в роли этой он не мог остаться в городской среде, только обычным деревенским парнем, которому новый мир поначалу кажется совершенно чуждым и непонятным. Даже разноцветная свита попугаев его покидает, когда герой с братьями подходят к городу. Он не может быть императором по-настоящему, поскольку его суть не свести к одной роли. Всё, что герою остается до возвращения амулета, это притворство. Называя себя императором, он словно претендует на власть, прежде всего над знанием, его конструированием.
Примечательно, что объектом пристального внимания тут являются не бразильские «туземцы», а жители Сан-Паулу, выходцы преимущественно из европейских стран: Франции, Португалии, Польши, Италии, Германии.
Адресатом же здесь представлены икамиабы — женщины-охотницы из амазонского леса. Макунаима делится с ними сведениями об иноземцах.
Местами текст письма нарочито европоцентричен. Например, главный герой называет воинственных женщин племени амазонками, словно античность — колыбель не только европейской, но вообще всей культуры, включая бразильскую. Также он использует высокопарный стиль, характерный скорее для европейского монарха или дворянина, чем для плутоватого парня из индейской деревни: любезным нашим подданным, тем паче смущать ваш разум, величайшее несчастье, ваши превосходительства. В этой сборной солянке напыщенный слог разбавляют разговорные элементы, реалии современности (неологизмы, автомобили, высоченные дворцы пятидесяти, ста, а то и более ста этажей, Институт Бутантан), пассаж, отсылающий к пасторали:
«…каким же сильным духом нужно обладать, чтобы устоять перед чарами и прелестями сих любезных пастушек!».
Встречаются здесь и обобщения, без которых со времен Геродота не обходится письменный рассказ об иностранцах, и специфическая лексика, свойственная «другим»:
«Паулистане — народ пылкий и благородный, их привлекают военные тяготы. Они живут в одиночных и коллективных сражениях, вооруженные до зубов; но даже при этом беспорядки здесь случаются довольно часто, и в этих беспорядках сотни бывают сражены на боевой арене, и этих героев называют бандейрантами, или знаменосцами».
На колониальные амбиции указывает ясно выраженное желание, чтобы икамиабы переняли европейский опыт, например, в делах любовных:
«…вам стоит у них поучиться величественному кокетству, играм и жестам Любви. Вы бы отринули тогда свой Закон гордого одиночества ради более приятных занятий, когда Поцелуй восхищает, Страсть распаляет».
Проблема влияния колониального мышления на повседневность тоже отражена в тексте. В качестве примера можно привести эксплуатацию природных ресурсов ради прихотей, когда наличие у наиболее богатых европейцев драгоценных камней и животных из разных частей планеты воспринимается как должное:
«Паулистанским дамам одного только французского воспитания недостаточно, им мало нежностей и кокетства по моде Людовика XV, и они выписывают из самых немыслимых уголков мира что им заблагорассудится, как-то: японских рыбок, индийские рубины, североамериканскую развязность, не говоря уже о прочих навыках и сокровищах со всего света».
В целом описания культурных различий между «своими» и «чужими» в тексте письма нередко сочетаются с патриархальной оптикой. Например, в этом фрагменте женщина — объект завоевания, любовница, которая не против поучаствовать в любовном приключении, если воздыхатель с толстым кошельком ее побалует чем-нибудь вкусненьким:
«Знайте также, что местных женщин покоряют не ударами палки, и сами они забавляются не ради забавы, но лишь под дождем презренного металла, в потоках игристого вина, осененного славным гербом Шампани и в окружении съедобных чудищ, которых в народе называют омарами».

Язык тоже становится объектом. Примечателен, например, вот этот отрывок:
«В разговоре пользуются паулистане варварским и неоднозначным язычиной, грубым на слух и нечистым в словесном составе, однако же который всё же имеет свою прелесть и силу, например, в метабазисах, а также в словах, предназначенных для забав с дамами».
На лицо отражение двойственного отношения к иной культуре. С одной стороны, интересно и необычно, даже определенные достоинства можно выделить (пусть и субъективные), с другой — иностранец всё равно чужак, всё равно есть в нем что-то такое, что кажется странным или нечистым.
В то же время, описывая лингвистические особенности, Андради подчеркивает культурную неоднородность Бразилии, когда множество языков самых разных народов (тупи-гуарани, португальцев, африканцев, которых продавали в рабство) образуют бразильский язык. Даже его носителям порой непросто избежать несостыковок, особенно если у них разный культурный бэкграунд:
«…Мы потеряли муйракитан; когда-то его писали „муракитан“; а некоторое ученые, рьяно защищающие необычные этимологии, пишут „мюуйракытан“ и даже — да-да, не смейтесь — „муракэ-итан“».
Серьезность исследования автор нивелирует за счет сочетания высокого стиля с разговорным и содержанием самого письма. Макунаима как император довольно смешон — просит женщин из амазонского леса обеспечить его какао-бобами, чтобы самому обменять их на деньги в городе. На что же? На омаров. Стоят эти ракообразные немало, а без них, по словам героя, расположить женщин из Сан-Паулу трудно.
Обилие информации о жителях города, отражение в письме актуальных проблем прошлого и современности (болезни, социальное неравенство, колоссальный разрыв между богатыми и бедными и т. д.) в сочетании с просьбой Макунаимы и воспроизведением европейских, колониальных и патриархальных штампов создают в воображении читателя многослойное полотно о Бразилии в сатирической форме.
Перейдем, наконец, к автору письма, без которого всей этой сборной солянки бы не было.
О происхождении главного героя
Макунаима представляет бразильцев как мультикультурную нацию, и для создания его образа писатель опирался на свои исследования и вдохновлялся трудами Теодора Коха-Грюнберга.
От своего мифологического прототипа Макунаима наследует эгоистичность и коварство, дар созидания, преобразования мира. Потоп пусть и не устраивает и в воссоздании людей не участвует, но может превратить подушку в гусеницу и успешно использовать блага современного мира для превращения себя во француженку, чтобы обвести вокруг пальца великана.
Другой важный источник, по словам переводчика романа Владимира Култыгина, это стереотипы о бразильцах: «любвеобильность, беспечность, порой чрезмерная уверенность в себе — и, конечно, та самая классическая и якобы непереводимая saudade, ностальгическая тоска».
Макунаима как противоречивый герой
Что такое совесть? Это такая важная штука, которую можно повесить на верхушку кактуса и уйти. Именно так поступает главный герой, прежде чем отправиться в Сан-Паулу за украденным муйракитаном.
Макунаима иногда без зазрений совести усложняет жизнь другим: занимается сексом со многими женщинами, включая девушку брата Жиге, пренебрегает предостережением другого брата (Маанапе), когда тот просит его не идти к реке Тьете ловить рыбу, поскольку героя может поймать старуха Сеюси. Иногда протагонист обманывает обоих, даже проклинает.
История с черным змеем Капеем раскрывает его с двух сторон. С одной стороны, Макунаима сразил чудовище, снес булыжником его голову. С другой — герой ринулся прочь, как только змеиная голова собиралась его поцеловать. Нашел бразильский змееборец убежище в заброшенном доме и прятался там, пока голова не поднялась на небо и не превратилась в Луну.
Проще говоря, назвать Макунаиму примером для подражания трудно, но сочетание героического и комического и делает его таким интересным персонажем.
Примечательна и сцена в амазонском лесу, когда протагонист находит свою избранницу спящей. Хоть всё и заканчивается предсказуемо, писатель разрушает представление об эпическом герое как о могущественном воине. Макунаима не может сам победить воинственную деву Си. Отвага у него есть, но вот сила иногда подводит. Его главное оружие — хитрость:
«…почуяв, что ему крышка, потому что никак не одолеть ему икамиабу, герой пал на землю и стал отползать, крича братьям:
— Держите меня, а то я ее убью! Держите меня, а то я ее убью!
Братья тотчас подоспели и схватили Си. Маанапе связал ей руки за спиной, а Жиге древком толстого копья ударил по макушке. Тогда обессиленная икамиаба рухнула в заросли папоротника».
Великана Пьяймана он тоже побеждает не самым типичным способом. Макунаима не поражает его копьем или стрелами, и сама сцена решающей схватки забавна и отсылает читателя к антропофагии: не без помощи хитреца-протагониста великан падает с лианы в соус для макарон. Иронично, ведь Венцеслав Пьетро Пьетра, судя по имени, имеет в том числе и итальянские корни. Важную роль здесь играет и лень. Именно с ее помощью герой загоняет людоеда в его же ловушку:
«— Хммм… лень-то как!
Но Пьяйман не унимался и настаивал, чтобы герой покачался на
качелях…
— Я ж совсем не умею качаться. Лучше ты первый мне покажи, –
прошипел Макунаима.
— Я-то, герой? Да это просто, как стакан воды выпить! Давай,
залезай, я уж тебя покачаю!
— Хорошо, но сначала залезай ты сам, великан».
В романе Макунаима предстает и как мальчик-муж: тело растет, голова остается прежней. Так автор в очередной раз подчеркивает противоречивость образа бразильцев. Главный герой почти не меняется, он сохраняет детскую непосредственность, тягу к развлечениям, отказывается от работы, прикрываясь ленью. Справедливости ради, лень он проявляет очень часто, даже когда речь идет о сексуальных забавах.
В целом Макунаима не особо предприимчив, самое амбициозное стремление сводится к мести купцу-великану и возвращению амулета.
Даже повысить свое положение герой отказывается, предпочитая «позабавиться» с португальской торговкой рыбы, чем жениться на дочери Вей и получить бессмертие в придачу. Сиюминутность для него важнее надежности, высокого места в социальной иерархии или плана завоевания мира.
Отдельно хочется рассказать о взаимодействии Макунаимы с горожанами. Отношение протагониста к санпаульцам противоречиво, как и он сам. С одной стороны, он сопротивляется индустриальному миру (и это сопротивление отражает мифотворчество), часто ленится и трудоголизмом не отличается, особенно на фоне деловитых горожан, с другой — питает тягу к местным товарам и не расстается с ними, когда возвращается в деревню.
Иррациональность Макунаимы преобразует прагматичный Сан-Паулу, разбавляет порядок хаосом.
Проиллюстрирую это одной смешной сценой. Суть ее такая: главный герой с братьями ищут тапира на улице, горожане запросто прерывают все свои дела, помогают и, естественно, злятся, когда выясняется, что никакого тапира не было:
«— Ну уж нет, так не пойдет! Это что же получается — люди трудятся не покладая рук, зарабатывают себе на хлеб насущный, а тут является какой-то тип, отрывает людей от работы на целый день, чтобы след тапира поискать!»
Порядок, установленный в городе, оказывается настолько хрупким, что его можно снести простым розыгрышем. Розыгрышем, который Макунаима изначально затеял лишь затем, чтобы отомстить братьям. Причина для протагониста серьезная — они разоблачили ложь героя перед жителями, когда тот рассказывал об удачной охоте на двух оленей, хотя на деле поживился лишь парочкой полудохлых крыс.
Важно упомянуть, что главный герой в Сан-Паулу почти не меняется. Автор словно полемизирует с Руссо и оспаривает его естественного человека.
Город не «развращает» Макунаиму, поскольку ни особым благородством, ни честностью, ни прирожденной добродетелью Макунаима похвастаться не мог и в индейской деревне.
Он сохраняет верность своей противоречивой, не идеальной натуре, оставаясь мальчиком-мужчиной, мифотворцем, любвеобильным и плутоватым антигероем.
Магия слова и действия: подрывной потенциал
После прочтения сложно представить протагониста без ритуалов и песен, рассказов о героях бразильского фольклора. Всё это важно не только как «дань богатой культурной традиции», но и как созидательные акты.
Макунаима как творец часто прямолинеен и не скрывает своих представлений о мироустройстве от других. Он проговаривает вслух мифологические истории, поет песни, чтобы сотворить мир заново.
Герой отстаивает альтернативный взгляд на свою страну и неоднократно транслирует оптику коренных бразильцев, при этом иногда привнося в нее элементы современной культуры.
Ярким подтверждением можно назвать миф о происхождении… не мира, но автомобиля. Машина в романе — символ индустриальной Бразилии, можно сказать, даже бог современности. Протагонист рассказывает о ней как о пуме, которая в прошлом мчалась от разозленной черной тигрицы и, чтобы скрыться, по пути собрала запчасти и постепенно превратилась в автомобиль.
«Природное» и «техногенное» становятся частью мифотворчества.
Также он спорит с мулатом о значении Дня Южного Креста. Связь праздника с католицизмом герой не признает, делится своим видением:
«— Ничего подобного! Дорогие дамы и господа! Эти четыре звезды в небе над нами — это Отец Мутуна! Я клянусь вам, дорогие мои, что это Отец Мутуна, он живет там, на бескрайнем поле небесном!»
Важно, что писатель не отрицает категорично версию жителя Сан-Паулу, через главного героя он полемизирует с ним.
Чтобы противостоять купцу-великану как «сатирическому воплощению санпаульских богачей» Макунаима прибегает к магическим действиям, неоднократно обращает Жиге в «машину-телефон», чтобы, к примеру, обругать антагониста.
Особое внимание хочется обратить на макумбу — ритуал, который возник в результате синтеза католичества и африканских верований (афробразильцы были вынуждены их совмещать).
Мариу ди Андради посвятил ей целую главу и подробно описал, как Макунаима вызывал дьяволоподобного трикстера Эшу. Во время макумбы это существо проникает в полячку, одну из участниц магического действа. Тело женщины на время становится сосудом для божества. Затем полячка становится вместилищем и для врага главного героя: «естество Венцеслава Пьетро Пьетры» входит «в тело Эшу, чтобы принять взбучку». Право на насилие от купца-великана переходит к Макунаиме, и он с охотой этим пользуется — измывается над антагонистом всевозможными способами, заставляя «окунуться в соленую кипящую воду» или «пройтись по битому стеклу в зарослях крапивы и ядовитых лиан на морозе от Сан-Паулу до самых утесов Анд».
Символично, что насилие над душой в чужом теле отражается и на физическом здоровье Пьяймана. Ни статус, ни богатство, ни привилегированное положение не спасают его от возмездия выходца из темнокожего племени.
При этом после макумбы Эшу и полячка быстро восстанавливаются.
Мотив преображения и его связь с бразильской «самостью»
Как часто бывает в мифологических историях, на смерти всё не заканчивается: Макунаима превращается в созвездие Большой Медведицы. Оно — последняя, но далеко не единственная метаморфоза главного героя. В первой главе Макунаима остается ребенком в индейской деревне, а в лесу превращается в прекрасного принца. Чтобы отомстить антагонисту и вернуть муйракитан, он перевоплощается во француженку. Заимствуя образы из европейского канона, автор подчиняет их целям гротескного Макунаимы.
Превращаясь, главный герой постоянно балансирует между разными культурными парадигмами, символически умирает в одном образе и рождается в другом.
Карнавал — основа его жизни с детских лет, и ему ничего не стоит имитация другого.
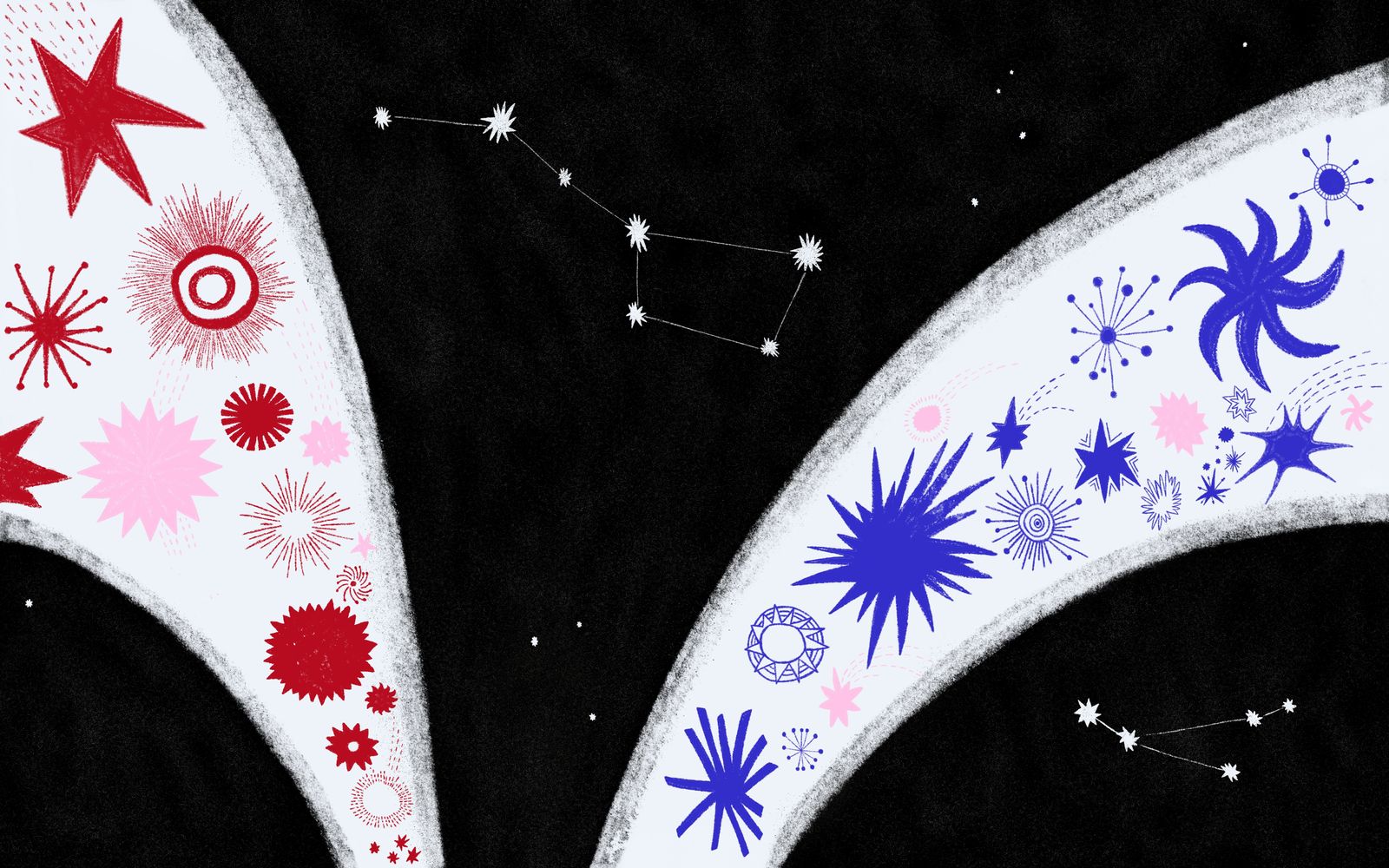
Одним из самых ярких моментов можно назвать сцену в пещере. Макунаима моется в волшебной воде и меняет темную кожу на светлую. Волосы и глаза тоже светлеют. Примечательна и реакция его братьев: оба воспринимают превращение как чудо. Однако их попытки стать такими же не приводят к аналогичному результату: кожа Жиге приобретает бронзовый оттенок, а Маанапе почти не меняется, только ладони и ступни становятся красными. В этом отрывке примечательна и другая деталь: «вода смыла с него всю черноту».
Понимание воды как очищающей стихии не ново, но в романе у нее, возможно, несколько значений. Здесь она символизирует христианизацию, поскольку пещера — след Сумé — колдуна, который занимался миссионерством. О псевдонаучной «расовой чистоте», как известно, рассуждали на серьезных тонах евгеники.
Волшебная сцена в пещере, вероятно, может быть аллегорией непринятия, вытеснения темнокожего населения.
Символично, что превращение главного героя происходит незадолго до прибытия в Сан-Паулу. Идея же неоднородности бразильской нации представлена сохранением расовых различий между тремя братьями.
Метаморфозы в романе особенно важны и по другой причине. С их помощью автор раскрывает мировоззрение Макунаимы как воплощения бразильцев. Мир в произведении больше чем декорация. Он — воплощение жизни, и не важно, как эта жизнь в нем проявляется, будь то звезды как продолжение Макунаимы или клещ, который в прошлом был человеком:
«И все клещи мигом попадали на землю и разошлись кто куда. Клещ — он всё понимает, он ведь тоже когда-то был человеком. Однажды клещ соорудил придорожную лавочку. Да вот только добрый он был человек — продавал в долг. Шло время, а прибыли так и не было, одни убытки, — всё из-за того, что клещ в долг продавал всем, кто хотел. Вот и разорился. А как разорился — выгнали его из лавочки на улицу. Теперь клещи стремятся должок получить с человека, потому и цепляются».
Заключение
Сочетая фольклорные мотивы и модернистскую эстетику, культурное и историческое (зачастую печальное) наследие бразильцев разного этнического происхождения, Мариу ди Андради демонстрирует, насколько сложно подвести национальную идентичность к четкому знаменателю. Другим достоинством произведения можно назвать его «несерьезность». «Макунаима» изобилует сценами, которые могут показаться забавными, даже нелепыми и абсурдными. Здесь юмор по силе не уступает ни великану-людоеду, ни полиции из Сан-Паулу. Пародируя, автор подрывает, нивелирует не только доминирующие нарративы, но, кажется, саму серьезность, рациональность, строгость, и прекрасно показывает, что с помощью смешного, иррационального и противоречивого можно отразить историю своей страны. Даже если смешное со вкусом горечи.
Колониальная оптика, мягко говоря, не изжила себя в России. Думаю, у создателя «Макунаимы» есть чему поучиться. Например, можно нивелировать представления об «утраченной империи» (что бы это ни значило) смехом и признать, что пародия на имперский дискурс, на самих себя, признание культурного, этнического разнообразия — неплохая альтернатива «величию».
Больше о значимых произведениях мировой литературы
Другая Африка. О романе классика нигерийской словесности Чинуа Ачебе — «Всё рушится»
«Эпоха» языкового новаторства. Как экспериментальный роман Бена Маркуса переворачивает коммуникацию автора и читателя?
Кормак Маккарти. Человек, написавший Дьявола. Как читать великого романиста нашего времени












