Ответ на статью «Синдром великого инквизитора»
от 15 ноября 2018 года
«Лучше скажи мало, но хорошо»
Козьма Прутков
Меня всегда забавляло, как некритично некоторые люди воспринимают мир вокруг. В первую очередь, конечно, они воспринимают некритично самих себя. Им очень сложно дается отделить собственные идеологические установки от фактов. В идеологических установках нет ничего плохого, но «Дискурс» — интеллектуальный журнал, а еще в середине двадцатого века Карл Мангейм высказывал надежду, что интеллектуалы смогут встать хотя бы чуть-чуть выше своей позиции и посмотреть на ситуацию как бы сверху и со стороны.
Поэтому именно на страницах Дискурса я хочу возразить на идеологизированную статью Ивана Алексеева «Синдром великого инквизитора: что общего между западными социалистами и российскими бюрократами». Я постараюсь разобрать некоторые уловки автора, логические несостыковки (намеренные или ненамеренные) и высказать свою позицию. Я не считаю себя ни марксистом, ни «леваком», поэтому, надеюсь, моя статья не будет столь идеологизированной.
Как не нужно использовать логику и почему социализм ≠ государственничество
В начале своей статьи Иван Алексеев пишет: «Социалиcтическое мировоззрение вернулось к нам незаметно, — то тут, то там, понемногу, — под разными именами и во многих формах. В России это «вертикаль власти…». В общем-то, автор сразу дает ответ на вопрос из заголовка: «что общего между западными социалистами и российскими бюрократами?».
Какая здесь ошибка? Автор приравнивает социализм и государственничество. Левая мысль чрезвычайно обширна, в нее легко можно поместить как Сталина, так и Бакунина, но один из них невероятно любил государство, другой — ненавидел. Государственничество вообще не является частной собственностью какой-либо идеологии.
В своей статье автор рассуждает не в терминах политических идеологий или хотя бы российской политики, а в терминах политики американской, где левые выступают за увеличение роли государства (хотя, стоит повториться, далеко не все — например, левое крыло анархистов призывает вообще от него отказаться). В России же публичная политика развита слабо и идеологическая дифференциация выражена слабо по разным причинам. Поэтому приходится брать готовые конструкции из американской политики и работать с ними. Но при переносе чужестранных конструкций на российскую почву начинаются проблемы.
Самые парадоксальные места в рассуждениях автора касаются «традиционных ценностей». Мало того, что он здесь фактически использует язык российских пропагандистов (что по логике автора должно значить, что он сам ужасный государственник и социалист). Он всецело убежден, что «традиционные ценности» существуют и являются действительно «традиционными»: «патриотизм, свободный рынок, свобода слова и уж тем более разделение ролей между мужчиной и женщиной…». Тут проявляется традиционная консервативная привычка воспринимать общества и людей как нечто целостное и относительно постоянное, будто существовавшее всегда. Автора не очень волнует, что треть американских колонистов на момент Войны за независимость были верны Великобритании; что идея свободного рынка была описана примерно в те же годы Адамом Смитом, а стала практиковаться и того позже и не всеми государствами; что распространение свободы слова началось с эпохи Просвещения, то есть совсем недавно, и всегда являлось результатом борьбы тех, кого раньше не было слышно, с правителями-тиранами и предпринимателями-монополистами; что распределение обязанностей между мужчинами и женщинами всегда зависело от исторических факторов и простых случайностей общественного развития.
Удобно и приятно считать, что достижения западноевропейских стран базируются на каких-то исконных ценностях. Но минимальное погружение в историю позволяет понять, что это не так. И Англия, и Франция, и Германия, и США в разные периоды истории были очень разными государствами. Странно думать, что достижения последних веков существовали всегда или что они являются чем-то имманентным. Странно думать, что каждый гражданин страны, европейской или азиатской, разделяет одни и те же ценности — можно обратиться хотя бы к World Values Survey, чтобы разобраться в этом вопросе подробнее.
Автор пишет: «…интеллект, доход и уровень образования во многом предопределены наследственностью», а ниже замечает, что у человека есть свобода и способность выбирать. Он не видит никакого противоречия между тем, что гены, по его мнению, частично, определяют будущее человека и тем, что человек независим в своих решениях. Помимо того, что автор выбирает только удобные исследования, он не утруждает себя задачей быть последовательным: вообще-то никаких научных доказательств того, что у человека есть свободная воля, не существует. Более того, основа естественных наук — физиологический редукционизм — говорит совсем об обратном.
Автор не знает, что американские левые называются либералами из-за Франклина Рузвельта, искавшего новые дискурсивные основания для своих реформ. Или что демократические социалисты в США во многом являются антиавторитаристами и никакого огосударствления экономики по типу СССР или современной России предлагать не могут. Иногда несостыковки в тексте можно увидеть, если просто открыть автором же оставленные ссылки. И это нормально — не знать чего-то. Ненормально представлять свое мнение как абсолютную истину. Но оставим ошибки автора и перейдем к следующей части моего ответа.
О чем на самом деле говорят левые
Автор, как многие американские, а теперь и российские правые, пишет о Social Justice Warriors, этаких оголтелых школьниках и студентах левых взглядов. Они существуют? Конечно. Можно ли по ним судить о левом движении в целом? Нет, такая экстраполяция ненаучна и неразумна.
SJW — чрезвычайно удобная конструкция: в интернете есть сотни видео с глупыми заявлениями не очень образованных и очень эмоциональных миллениалов, часто они носят странную одежду и прически, ведут себя вызывающе и неприятно. В общем, не любить их очень просто. Когда автор ругается на медиа, которые в идеологии «Альтернативы для Германии» видят только национализм (мол, да, это привлекает радикалов, но движение не про это), он не допускает мысли, что в левом движении могут быть такие же радикалы и что по ним нельзя судить о всей картине.
Какие аргументы используют левые, когда предлагают свои планы по переустройству общества? В первую очередь, они говорят, что социальные условия очень часто оказываются сильнее человека. Легко говорить о свободном рынке, когда у тебя миллионы, полученные в наследство от отца. Трудно говорить о свободном рынке, когда ты родился в сером городишке, где только одно градообразующее предприятие, полностью контролирующее местную администрацию. Правые скажут: ну, так это не свободный рынок, на свободном рынке нет коррупции и нет монополий. Почему-то им редко удается понять, что их несуществующий свободный рынок — такая же утопическая конструкция, как социализм.
Не все левые являются сторонниками государства. Как отмечалось выше, среди них, например, есть анархисты и либертарные социалисты. Просто предполагается, что государство — самый сильный доступный механизм борьбы с несправедливостью. Кроме того, с ним можно работать, улучшая его. Можно спорить о том, каков размер неравенства в обществе, как его правильно считать и так далее. Вопрос в том, что ощущают люди и каковы их возможности влиять на принятие решений, которые касаются их самих. И вообще-то левые считают, что люди должны управлять сами собой (сталинизм — достаточно извращенная форма государственничества, социализма в ней мало). Поэтому нужно создавать такие социальные институты, которые позволят человеку наиболее полно раскрывать свой потенциал.
Правые лелеют негативную свободу — свободу от чего-то, свободу распоряжаться самим собой. Левые, признавая важность негативной свободы, говорят, что нужна и позитивная свобода — свобода творить, жить ради чего-то. В той или иной степени, все левые считают, что человеку необходима свобода от нужды, иначе он не может жить по-настоящему свободно и счастливо.
Есть и чисто прагматическая проблема: бедные люди или люди, которые заняты исключительно выживанием, не имеют ресурсов участвовать в политике. В итоге решения о них принимаются не ими. Богатые люди в такой схеме получают чрезвычайно большую власть: лоббистские деньги, наемные протестующие, шантаж налогами и рабочими местами.
Странно представлять, что государство ограничивает свободу человека, а рынок не ограничивает. Человек в любом случае существует в обществе с другими людьми и вынужден идти на уступки, его свобода не абсолютна. Да и свобода — это не произвол (что, по сути, является рабством по отношению к своим желаниям, которые человеком не контролируются), а, например, добровольное и сознательное подчинение одним и тем же законам, установленным самими людьми.
Демократия всегда предполагала балансирование между свободой и равенством: без одного невозможно другое. И в разных государствах может быть разный баланс между ними, вопрос в том, на каких моральных основаниях строится политика в обществе. Либо мы считаем, что изначально все мы люди и потому равны друг другу в правах, что каждый человек заслуживает уважения и имеет право управлять самим собой, в том числе через коллективные органы; либо мы считаем, что люди не равны, одни заслуживают больше уважения, чем другие, что человек в первую очередь должен иметь право управлять самим собой в индивидуальном отношении.
Частично позиции несовместимые. Но для нормального существования и развития общества нужны и те, и другие, потому что общество никогда не бывает единым и целостным по своей структуре и ценностям. И левые, и правые должны сотрудничать: одни люди больше предпочитают открытость новому, другие стабильность; одни — равенство, другие — доминирование. Но это не меняет сути.
Важны уважение между группами и нормальная дискуссия. Статья Ивана Алексеева этому не способствует, потому что строится на ложных посылках и нежелании видеть разумные основания в убеждениях противников. Конечно, российские чиновники не являются социалистами, потому что в основании их политики лежат совершенно другие убеждения. Доказывать несостоятельность левых идей, приводя в пример неэффективный авторитарный российский режим, так же опрометчиво, как доказывать ошибочность правых взглядов на примере либертарианца Рона Свонсона из «Парков и зон отдыха». Смотрится интересно, но ничего содержательно нового нам не дает.




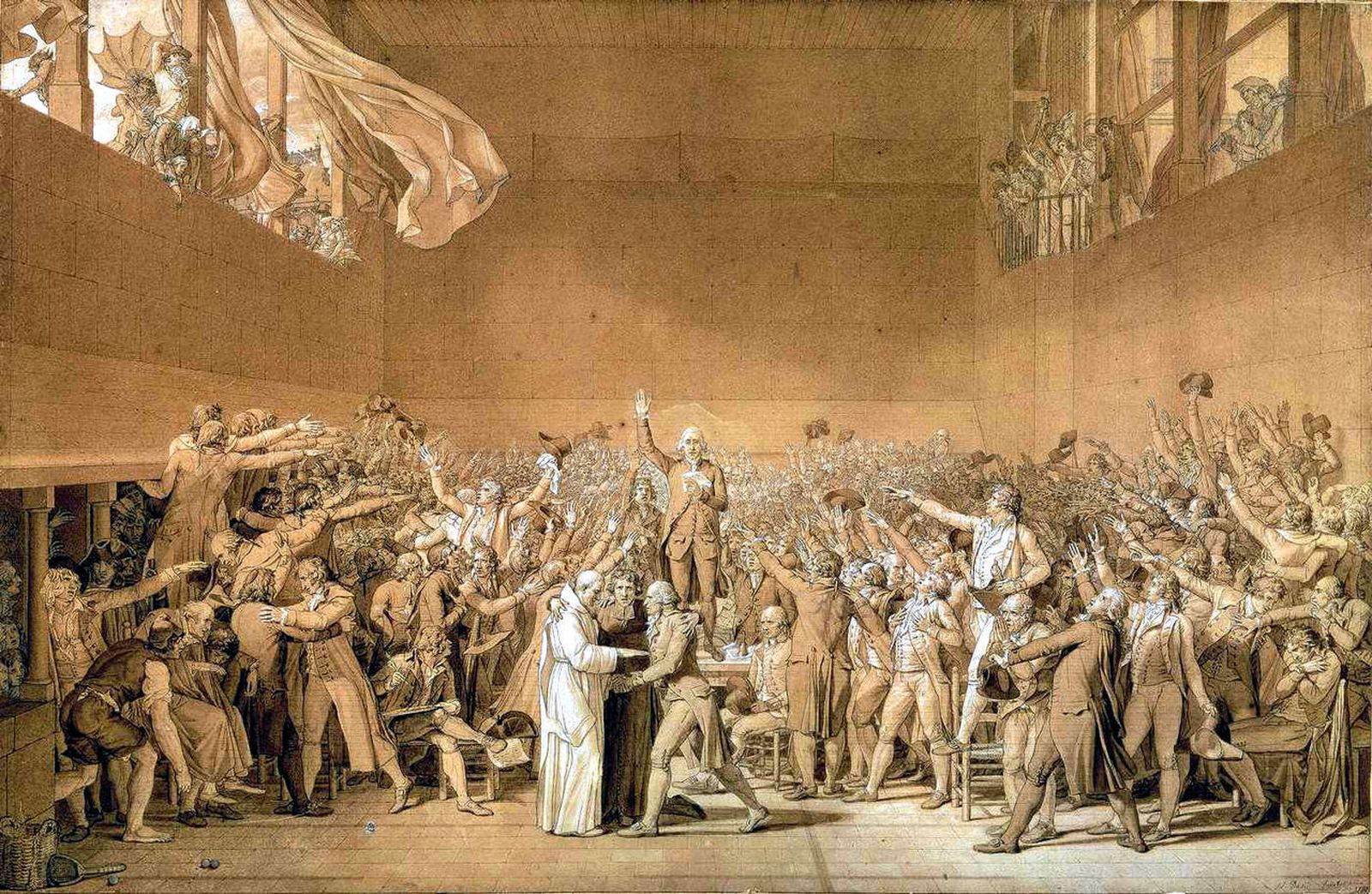








Пока никто не предлагал правок к этому материалу. Возможно, это потому, что он всем хорош.
Предложения
Оригинальный текст
Садясь за статью «Синдром великого инквизитора», я ставил перед собой задачу рассмотреть психологический феномен левизны, который можно наблюдать повсеместно у людей, казалось бы, самых разных взглядов. Подчеркну еще раз, что речь идет только о современных обществах европейской культуры: в некоторых регионах России и во многих частях света нам не позволили бы спорить о левых и правых, не то что обо всех остальных тонкостях.
Итак, «социалистическое мировоззрение», которое я критиковал в своей статье, сводится к убеждению, будто человек себе не хозяин. Якобы у него нет свободной воли: если он злобен, то это потому, что его плохо воспитали; если он глуп, то, значит, ему не дали образования; если он беден, то виноваты чиновники. Отсюда неизбежно следует, что о нем должен позаботиться кто-то внешний, ― благонамеренный деспот, которого Достоевский в своей знаменитой притче назвал «Великим инквизитором».
По всей видимости, уважаемый Павел Касаткин не понял моей главной мысли вовсе. Он утверждает, например, что социализм не есть государственничество. Используя это (до некоторой степени эмоционально окрашенное) слово, он бессознательно совершает подлог, заменяя «государство-няньку», о котором идет речь у меня, государством-тираном. Более того, он, возможно, полагает, что столкнулся в моем лице с рыночным анархистом. Однако я вовсе не отношусь к государству отрицательно: демократические свободы гарантированы только в прочном государстве, имеющем достаточную власть, чтобы наказывать бандитов и охранять границы.
Итак, разберем комментарий Павла Касаткина последовательно.
Почему социализм подразумевает усиление государственного вмешательства
Павел Касаткин пишет: «Далеко не все [левые выступают за усиление государственного вмешательства]: например, левое крыло анархистов призывает вообще от него отказаться.» Здесь уместно процитировать «Пагубную самонадеянность» Фридриха Хайека: «Главным образом Марксу мы обязаны и подменой: термин "общество" стал обозначать государство (или аппарат принуждения, о котором он, собственно, и толкует) ― словесный трюк, призванный внушать нам, что можно сознательно регулировать действия индивидов, не заставляя их, а каким-нибудь более благожелательным и мягким способом.»
Я совершенно согласен со словами Павла о том, что свободный рынок ― только модель, абстракция. Вероятно, иногда государственное вмешательство даже необходимо (например, при экономических кризисах; судить не берусь, так как недостаточно компетентен). Однако есть только два способа «связать» рынок и снизить неравенство, то есть добиться того, чего хотят левые. Первый, утопический, подразумевает добровольное согласие богатых людей поддерживать бедных и реализован в скандинавских обществах, имеющих очень удачный культурный, исторический и этнический бэкграунд. Второй способ ― прямо противоположный: государственное принуждение или, по крайней мере, контроль. В своей статье я постарался объяснить это; повторю еще раз, в других словах. Представьте себя на месте очень богатого человека. Вы можете без всякого внешнего принуждения пожертвовать часть средств на благотворительность, то есть в порядке личной инициативы перераспределить часть доходов. После того, как вы отдадите такое количество денег, с которым готовы расстаться, бедные люди продолжат твердить о неравенстве и проголосуют за того, кто заставит вас отдать еще больше. Такие идеи носятся в воздухе постоянно. Недавний пример ― книга французского экономиста Т.Пикетти «Капитал в XXI веке» (2013). В ней автор, конечно, из самых благородных побуждений, предлагает ввести некий «мировой налог», чтобы предотвратить сильное социальное расслоение, которое он считает неизбежным:
«Для регулирования глобализированного имущественного капитализма XXI века недостаточно переосмыслить налоговую и социальную модель XX века и адаптировать ее к современному миру. [...] Чтобы демократия могла вновь взять под контроль глобализированный финансовый капитализм нового столетия, нужно изобрести новые инструменты, адаптированные к современным вызовам. Идеальным инструментом был бы мировой прогрессивный налог на капитал в сочетании с очень высокой степенью прозрачности международной финансовой системы.»
О традиционных ценностях
Далее Павел Касаткин спорит с моими словами о естественности традиционных ценностей: «Удобно и приятно считать, что достижения западноевропейских стран базируются на каких-то исконных ценностях. Но минимальное погружение в историю позволяет понять, что это не так.» Мне не хотелось бы вступать в спор о том, что именно было фундаментальной причиной успеха европейских стран, хотя «минимальное погружение в историю» позволяет понять, насколько эти страны, а также отчасти и Россия, отличаются от всех остальных, даже с учетом всех тех колебаний, о которых пишет Павел. Свобода, не превратившаяся в кровавый беспредел, ― это в масштабе истории нечто уникальное. (На всякий случай обозначу свою позицию: я убежден, что между расами и даже национальностями имеются существенные биологические отличия. Одним только рынком успех Европы не объяснишь. Впрочем, подозреваю, что Павел приписывает этот успех историческим случайностям или эксплуатации колоний.)
Как бы то ни было, речь моя шла лишь о том, что социалистическое мировоззрение, зачастую замаскированное лженаучными доводами, проявляется в числе прочего и в нападках на традиционные ценности и «гендерные предрассудки». Эволюционной биологии известно со времен Дарвина (об этом он пишет прямым текстом в «Происхождении человека»), что гендерные роли возникли в ходе естественного отбора и имеются не только у людей, но и у большинства других животных. Общества, предоставленные самим себе (где нет социальной защиты или возможностей карьерного роста за счет государства), вырабатывают семейную структуру спонтанно. И наоборот, социальные выплаты снижают средние размеры семьи (cм. график; источники: 1, 2).
Однако левые продолжают утверждать, что, например, вовсе не гормоны, а некое внешное воздействие иногда заставляет современную европейскую женщину заботиться о домашнем хозяйстве и детях в ущерб карьере. Естественно, они просят государство вмешаться. Одно из скромных, однако типичных предложений, слышанных лично мной, сводится к тому, чтобы запретить работодателям требовать от соискателей фотографии и имена. Мол, чтобы не было дискриминации по половому (или национальому) признаку. Конечно, социалисты не говорят «запретить», они говорят «отменить». Но кто будет следить за исполнением этого требования, если не государство?
О свободе воли
Наиболее интересное замечание, сделанное Павлом Касаткиным, звучит следующим образом: «Вообще-то никаких научных доказательств того, что у человека есть свободная воля, не существует. Более того, основа естественных наук ― физиологический редукционизм – говорит совсем об обратном.» Действительно, поскольку человеческое тело подчиняется таким же законам природы, что и атомы, его составляющие, можно сказать, что свободной воли у человека нет. Теоретически это, конечно, правильно.
Но как быть с практикой политики и жизни? Какова альтернатива концепции свободной воли? Павел Касаткин скажет, что преступника, например, нельзя наказывать: тот не виноват, это всё неправильные электрические импульсы в мозгу. Почему бы тогда не заменить людей на абсолютно добродетельных роботов? Это не такая уж нелепая фантазия: вот, например, симтомы некоторых психических заболеваний можно снять, вживив человеку в мозг специальные чипы. Когда-нибудь, вероятно, можно будет создать доброго и умного человека с помощью генетической модификации. Я не хочу жить среди искусственных людей.
Заключение
Я всецело разделяю мнение уважаемого Павла Касаткина о «золотой середине» и приношу ему свои извинения на случай, если задел его чувство прекрасного, однако хотел бы еще раз выразить беспокойство. Ложная идея, будто личность человека формируется общественными обстоятельствами, слишком прочно укоренилась в сознании многих, что и составляет основную проблему современной демократии, столь любезной сердцу Павла Касаткина. В статье «Синдром великого инквизитора» я приводил некоторые цифры из социологических исследований в России и Европе, ― они не слишком обнадеживают. Такое же гнетущее впечатление производит и европейский дискурс вокруг так называемых «правых» партий и мнений.
Дело здесь не только в философии; вмешательство государства, заключается ли оно в воровстве или перераспределении в стиле Робин Гуда, замедляет экономический рост (данные по странам ОЭСР на графике).