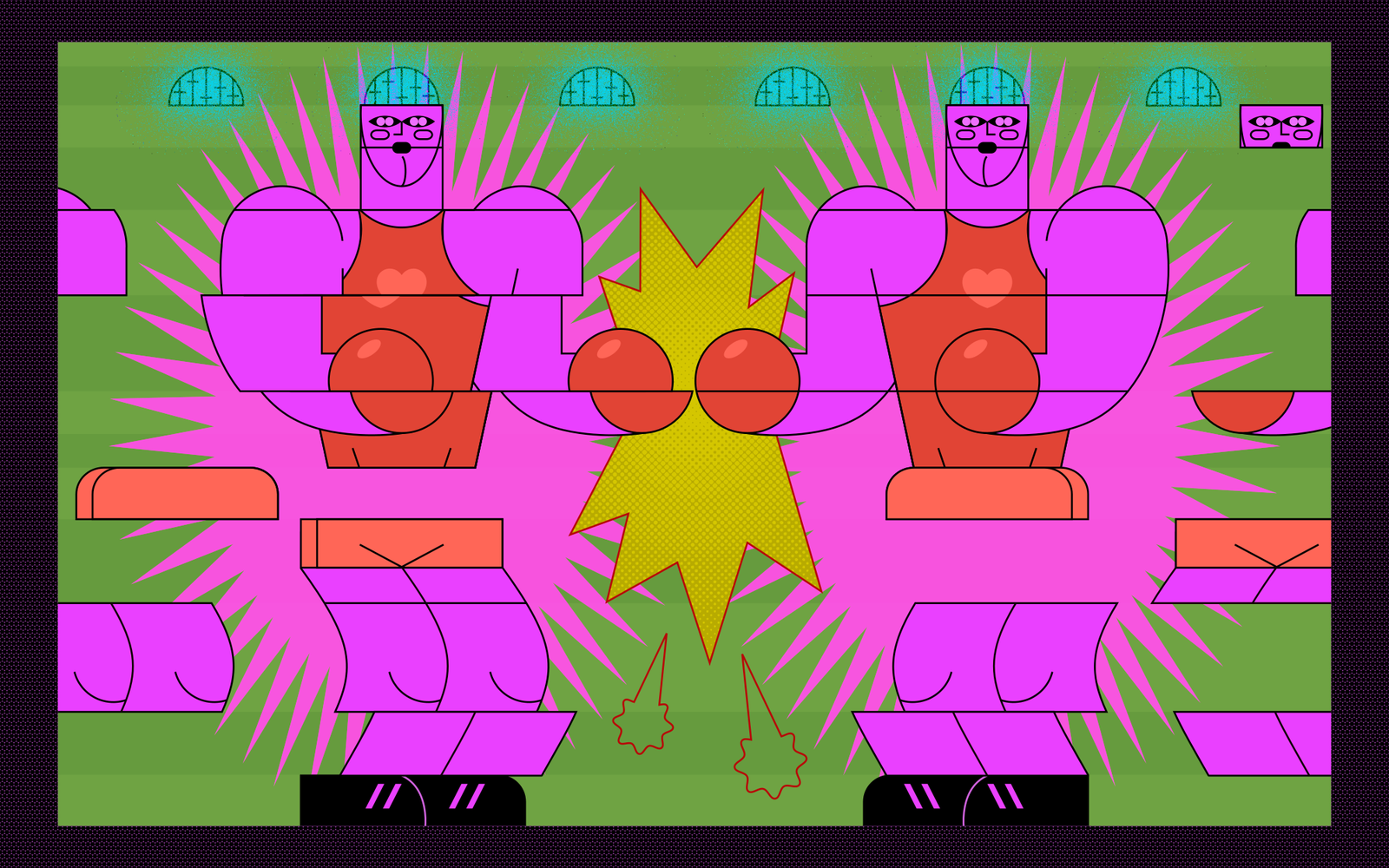Возникновение вражды между людьми, происхождение зависти, мести и механизмы групповой агрессии всю жизнь изучал франко-американский мыслитель Рене Жирар. В своих работах антрополог объяснял, как распространяется хаотичное насилие и каким образом в современном обществе можно искать компромиссы. Кандидат философских наук Марыся Пророкова в статье о новаторских идеях выдающегося антрополога рассказывает, почему желание человека на самом деле ему не принадлежит, каким образом выстраивается «треугольник соперничества», зачем обществу нужны жертвоприношения и как они связаны с массовой культурой, в чем основные ошибки демократических форм разрешения конфликтов и как отказаться от конкурентной логики, ксенофобии, гонки вооружений и по-новому взглянуть на жизнь вместе.
Издательство «Новое литературное обозрение» выпустило «Эволюцию желания» — биографию Рене Жирара (1923–2015), мыслителя, благодаря которому термины «учредительное насилие» и «козел отпущения» приобрели этико-политическую окраску и вошли в обиход не только в гуманитарно-академической среде, но и в пределах обыденного языка.
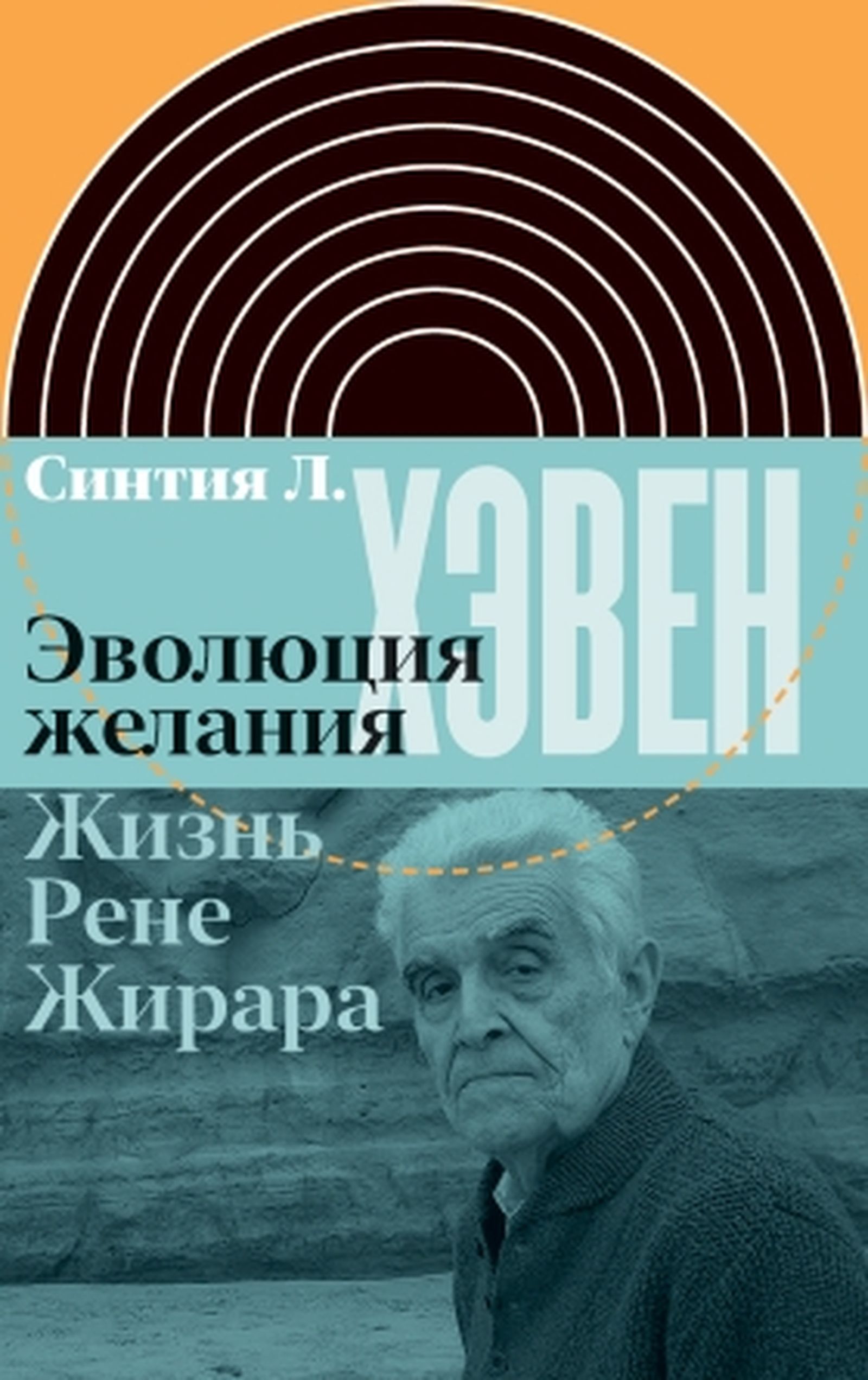
Авторка Синтия Хэвен — журналистка, исследовательница литературы, сотрудница Стэнфордского университета, которой принадлежит ряд монографий, посвященных писателям, в частности Бродскому и Милошу, проделала скрупулезную работу в стремлении проследить связь между биографией философа и его идеями. Жизнь Рене и пастозная междисциплинарность его антропологической концепции полна парадоксов, способных вызвать удивление в его самых разных изводах: француз до мозга костей, все значительные труды которого родились на американской почве. Светский интеллектуал и университетский преподаватель, в сознательном возрасте прошедший катехизацию. Исследователь-мегаломан, посреди цветущего постмодернизма создавший целостную философскую программу, претендующую на то, чтобы объяснить решительно всё, происходящее с человечеством. Наконец, историк по образованию, решавший «вечные» философские проблемы на литературном материале. Есть и еще один занимательный парадокс — при очевидной обскурности тем, занимавших героя книги Хэвен — месть, зависть, групповое насилие, маргинализация Чужого, человеческие жертвоприношения — сам мыслитель был, как показывает биограф, доброжелательным, глубоко гуманным и веселым человеком.
Хэвен показывает творческий путь философа — от тихого консервативного Прованса к либеральной Калифорнии — давая читателю широкий исторический контекст, аккуратно центрированный вокруг интересовавших Жирара проблем. Средневековый Авиньон как центр католической культуры, оккупированный немцами Париж, вишистский французский юг, балансирующая между демократическими и республиканскими ценностями Америка середины XX века, интеллектуальная мода на французскую мысль в 70-х предстают не просто безликим фоном, но и ценнейшим материалом для философской рефлексии. Как справедливо замечает Хэвен, научная биография Жирара не знала резких переходов от одного инструментария к другому, от темы к теме, но развивалась как одно целостное, нюансированное исследование. Читая «Эволюцию желания», мы наблюдаем за генезисом этой объемной работы длиной в целую жизнь.
Книга Хэвен написала в чрезвычайно доброжелательном — как по отношению к герою, так и по отношению к читателю — тоне, напрочь лишена напускного драматизма и сентиментальности и оставляет после себя впечатление увлекательного детектива и крепкого научпопа одновременно. «Эволюция желания» вышла в 2021 году, однако в нынешнее турбулентное время, переполненное сложными коллективными аффектами, чтение ее может заиграть совсем иными красками.
Уже во введении авторка предлагает краткий, но емкий экскурс в миметическую теорию как в теорию заразительного желания.
«Он опроверг три широко распространенных исходных допущения касательно природы желания и насилия: первое допущение гласит, что желание человека — искренно и возникает у него самого; второе — что мы ссоримся из-за того, чем мы различаемся, а не из-за того, чем мы абсолютно похожи между собой; а третье — что религия есть причина насилия».
Мимесис в качестве движущей силы культуры интересовал многих исследователей, однако Жирару удалось придать миметическим процессам более глубокое и драматичное прочтение — связанное с глубинной тревогой желания, истоками насилия и потребностью в солидаризации. Примечательно, что жирардианская миметическая теория — теория происхождения человека из способности к подражанию — развилась из сугубо академического интереса философа к повторяющимся в литературе сюжетам, однако после и самим Жираром, и большинством его последовательных читателей стала пониматься скорее как реинтерпретации вечных исторических сюжетов, имеющая конечную и вполне практическую цель — по-новому взглянуть на то, «как жить вместе».
Мое желание мне не принадлежит
«В человеческом поведении нет ничего или почти ничего, что не было бы присвоено через изучение, а всякое изучение сводится к подражанию» — пишет Жирар в работе «О сокровенном». Однако вместе с тем он критикует односторонность популярных в начале и середине XX века теорий подражания (Габриэля Тарда, Эриха Ауэрбаха, Поля Рикера), понимающих под мимесисом лишь копирование определенных моделей поведения. Главная ошибка всех теоретиков мимесиса, занимавшихся его социальными аспектами, — отказ заглянуть глубже и обратиться к самой потребности в этой репрезентации.
Жирар предполагает, что для понимания проблемы истоков миметического следует разделить миметическое подражание на два типа: так называемый мимесис обучения (la mimesis d’apprentissage) — тот, что выступает в роли двигателя культуры, и мимесис соперничества (la mimesis de rivalité), участвующий в распределении материальных и символических благ. Жирар подчеркивает разницу между ними, приписывая первой созидательные аспекты, а второй — разрушительные и приводящие к конфликтам.
Согласно гипотезе Жирара, воспроизводя жест соплеменника, человеческая особь не только заимствует полезные навыки, но и учится обозначать тот или иной объект как желанный — благодаря тому, что объект уже распознался в качестве желанного другим.
При всем видимом сходстве данной идеи с концепцией желания другого у Жака Лакана и концепцией нехватки бытия Жан-Поля Сартра Жирар в первую очередь затрагивает не внутреннюю психологическую жизнь личности, но этические и нормативно-правовые инварианты общественной̆ жизни.
Для Жирара очевидно, что желание обладания каким-либо объектом (реже — качеством, положением, статусом) не прямо пропорционально самоценности объекта, то есть его привлекательность продиктована отнюдь не соображениями практической или символической выгоды, связанной с его обладанием.
Способность испытывать желание рождается в субъекте как полуосознанная тревога, ищущая выхода вовне, она предшествует встрече с объектом. Именно это состояние человеческой личности и направляет желание субъекта на поиск объекта, достойного желания — а именно на объект, уже ставший желанным для другого. Для обозначения отношения желающего субъекта с желающим другим Жирар вводит понятие образца-препятствия — соперника, выступающего одновременно и транслятором модели желания, и препятствием на пути к его удовлетворению.
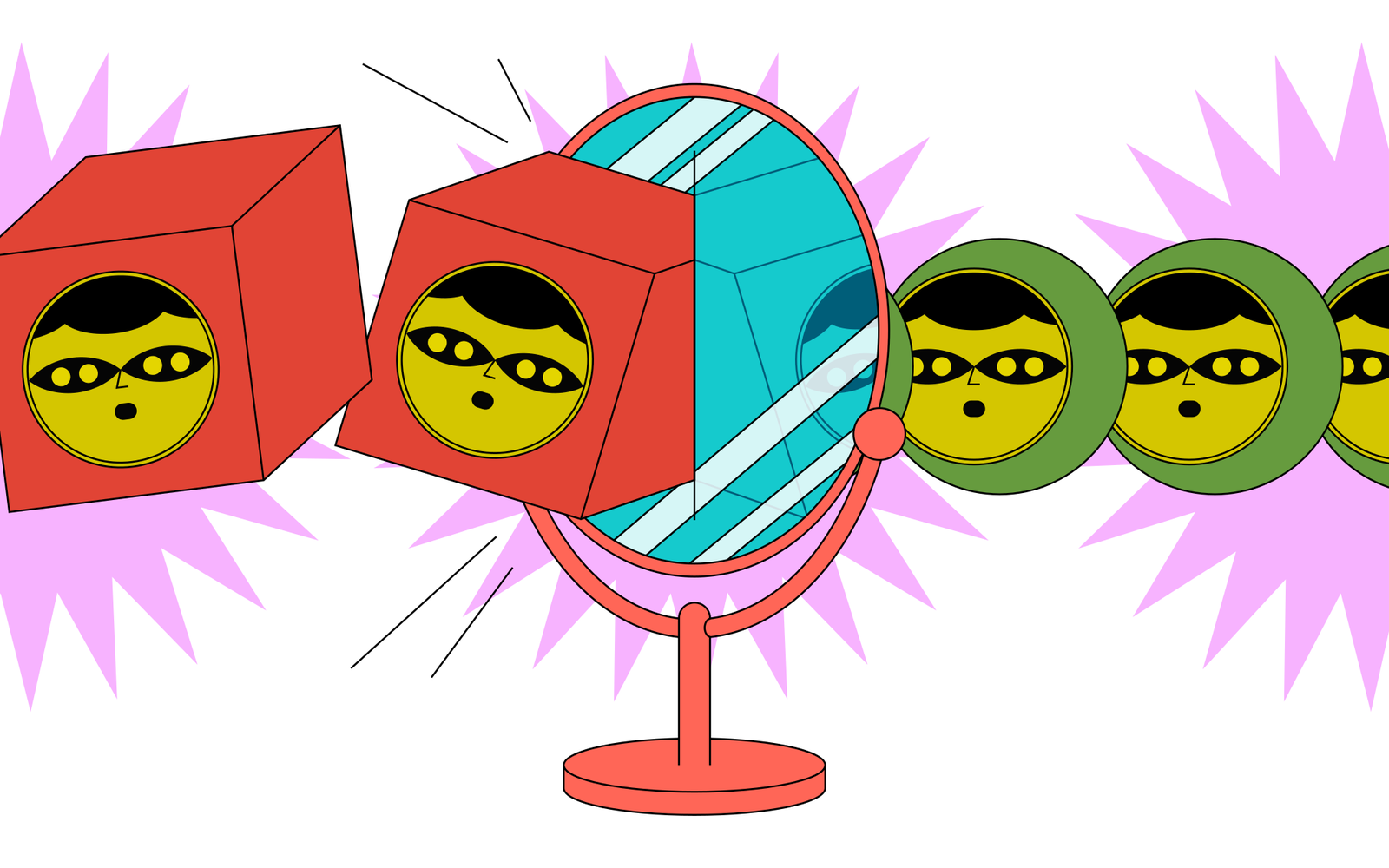
Термин skandalon, интересующий Жирара в связи с библейскими сюжетами, обладает сходными функциями — им обозначается «препятствие», «западня на дороге», «камень преткновения», а корень «скадзо» означает «хромать»: «Если собрать все употребления этого слова, на первый взгляд слишком разнородные, то нельзя не прийти к выводу, что скандалон — это препятствие в миметическом соперничестве, образец, который противодействует порывам своего подражателя-ученика и становится для него неисчерпаемым источником болезненного очарования. В Евангелиях скандалон — это никогда не материальный объект, но всегда Другой, или же я сам как отчужденный от Другого».
Схема, описывающая механизм миметического желания, получает у Жирара название «треугольника желания» (le désir triangulaire) или, в более поздний период — «треугольного соперничества». Это понятие появляется во многом благодаря критике психоаналитической модели эдипова треугольника, через анализ новоевропейской литературы и внимательную, детальную проработку таких фигур коллективного воображаемого, как соперничество, зависть и ревность. В заочной полемике с Фрейдом Жирар вырисовывает собственное понимание треугольника, основанное не на переживании субъектом тяги к матери и зависти к отцу, но на более общем основании желающего мимесиса, вмещающего в себя игру перемещающихся и взаимопроникающих ролей.
Конфликт как кризис различий: треугольник соперничества
Обезразличенность, спровоцированная соперничеством, вводит участников миметического процесса в то состояние, в котором больше не действует система запретов, не работают механизмы контроля и нивелируются все возможные нормы, и каждый может стать соперником каждого. Причинно-следственные связи перестают работать в обычном режиме, рациональность дает сбои, а явления соединяются между собой в чудовищном, фантасмагорическом порядке.
Страх перед зеркалами и двойниками, мистическая аура вокруг близнецов и отражений, репрезентированная в многочисленных приметах, ритуалах и предостережениях всех народов мира, фундирована ужасом перед этой утратой различий, растворением всякой индивидуальности, иными словами — перед дознаковым и доинституциональным состоянием общества, отраженном в представлениях о первородном хаосе.
Классический антропологический спор о первенстве мифа и ритуала в жирардианской оптике нивелируется, поскольку и тот и другой имеют одну и ту же природу — страх перед заразностью миметического соперничества, подводящий к необходимости структурировать социальную реальность — как через конструирующий реальность рассказ (в мифе), так и через конструирующее реальность действие (в ритуале).
В качестве яркого примера схемы миметического заражения Жирар нередко обращается к образу чумы. Чума, как метафора социального разлада и хаоса, неоднократно используется им для иллюстрации механики подражания, ее действие — аналогичное действию миметического кризиса — репрезентируется в художественной культуре именно по той причине, что общество на интуитивном уровне ощущает генетическое родство между опасностью пандемии и социальными треволнениями, как если бы в основе каждого из них лежал один и тот же подражательный механизм.
Сходные позиции относительно социальной значимости чумы транслировал и Антонен Арто: в работе «Театр и его двойник» высказывая свою убежденность в том, что градус моральной паники вокруг пандемии всегда влечет за собой падение общественных устоев, законопорядка и нравов — и вовсе не только потому, что заболевание затрагивает мозг и повергает заразившихся в безумие, но в силу природы дурного миметизма, охватывающего все большие и большие пласты населения.
Миметический кризис — ситуация всеобщей утраты различий, в которой нарастает градус антагонизма всех со всеми, и насилие не имеет направления, распространяясь хаотично.
В итоге не остается ничего, кроме обращенных друг против друга враждебных жестов — насилие не имеет разграничения на «чистое», легитимированное применение силы, и «грязное», преступное и неконтролируемое. В этом броуновском движении (взаимных обвинениях, «охоте на ведьм» и поисках козла отпущения, в оспаривании друг у друга иллюзорных объектов желания) и моральной панике обнаруживает себя логика, основанная, опять же, на свойстве миметического насилия «прилипать» к другому как к посреднику: на этапе распада идентичностей и норм сообщество постепенно начинает собирать рассеянное насилие, направляя его в одну сторону. Таким образом, сообщество самообновляется, вслед за этапом рассогласования выбирая того «чужого», который якобы является причиной постигших общину бед.
По Жирару, человеческое общество как таковое строится через осознание опасности миметического насилия, на этом осознании, благодаря ему и вопреки ему. Весь комплекс социальных договоров, пронизывающих каждую сферу жизни индивида и группы, вырастает параллельно с системой запретов и предписаний. Моральные и юридические ограничения, накладываемые на каждого отдельно взятого индивида, выступают превентивной мерой, направленной на то, чтобы уберечь сообщество от вражды и конкуренции, пресечь миметический соблазн.
Миметическая теория фактически не артикулирует различие между агрессией как таковой, насилием и конкуренцией за ресурсы — демонизируя мимесис присвоения (или, иначе, апроприации), Жирар отделяет удовлетворение потребности в том или ином объекте от желания самого по себе.
Агрессия, не направленная на внешнего врага, рискует быть направленной внутрь группы. Стратегия защиты сообразна тонким различениям между своими и чужими: «своим» считается тот, кто признан таковым большинством или доминирующей особью, а также тот, кто не выделяется проступками, ставящими спокойствие и безопасность сообщества под угрозу.
Процесс различения своего и чужого, помимо утилитарных соображений (безопасности и выживания) и социальных (установления границ группы как целого) имеет для Жирара важные философские и гносеологические функции. Нахождение с другими, обозначенными как свои — в данной парадигме куда больше, чем просто рудимент страха перед трудностями выживания в диких условиях.
Жираровское видение общества вместе с тем отдает гоббсовским пессимизмом — контракты и пакты, заключаемые членами сообщества из соображений процветания и безопасности, по сути своей являются ничем иным, как попыткой обезопасить себя от своих же собратьев и от вечной угрозы миметического кризиса.
Кому и для чего нужны человеческие жертвоприношения?
Пожалуй, самая известная идея Жирара — учредительное насилие, то есть представление о том, что общество солидаризируется через ритуальное убийство (реальное, но иногда и символическое). Можно сказать, что Жирар признавал поиск виновного чужого главным вопросом антропологии.
В поздних трудах значимость жертвенной практики артикулируется Жираром через анализ процессов, происходящих в современном обществе — лишенное института жертвоприношения, оно утрачивает возможность «канализировать» насилие, и «злокачественный» мимесис апроприации пронизывает все сферы общественной жизни.
Одним из самых ярких примеров может служить массовая культура с ее конструированием образцов-препятствий и погоней за квазиактуальными объектами желания наших «информационных пузырей» — теми или иными достижениями, элементами стиля или другими показателями успешности, релевантными для конкретного сообщества.
Динамика миметического устроена таким образом, что риторика вины прогрессирует по мере того, как в нее включается «большинство», иными словами — она работает по принципу argumentum ad populum.
Вытеснение за границу общества виновного лица осознается как возможность вытеснения всего того, что вносит дисгармонию в «нормальное» состояние.
Как только вера в связь между избавлением от бедствия и искупительной жертвой ослабевает, утрачивается и важнейший инструмент регуляции конфликтов. Жирар делает акцент на том, что жертвенный механизм работает до тех пор, пока существует буквальная или символическая связь между «беспорядком», происходящим в обществе и лицом/группой лиц, якобы виновным в этом беспорядке.
Наличие внешней опасности или общего врага (в политическом в том числе смысле) автоматически снимает напряжение внутри группы, заставляя ее функционировать более слаженно и дружно, и тем самым уберегая ее от миметического кризиса — внутригрупповой агрессии (между членами одного трудового коллектива или семьи), кровной мести, гражданских войн.
В качестве примера Жирар приводит сюжет из антиутопии Джорджа Оруэлла «1984», в которой две главы тоталитарных государств по предварительной договоренности убеждают народ подвластных им территорий в том, что между ними ведется война. Культивирование образа врага помогает государствам и правительствам усилить то, что в этологии называется афилиативными связями — солидаризацией внутри одной социальной группы (стаи, общины).
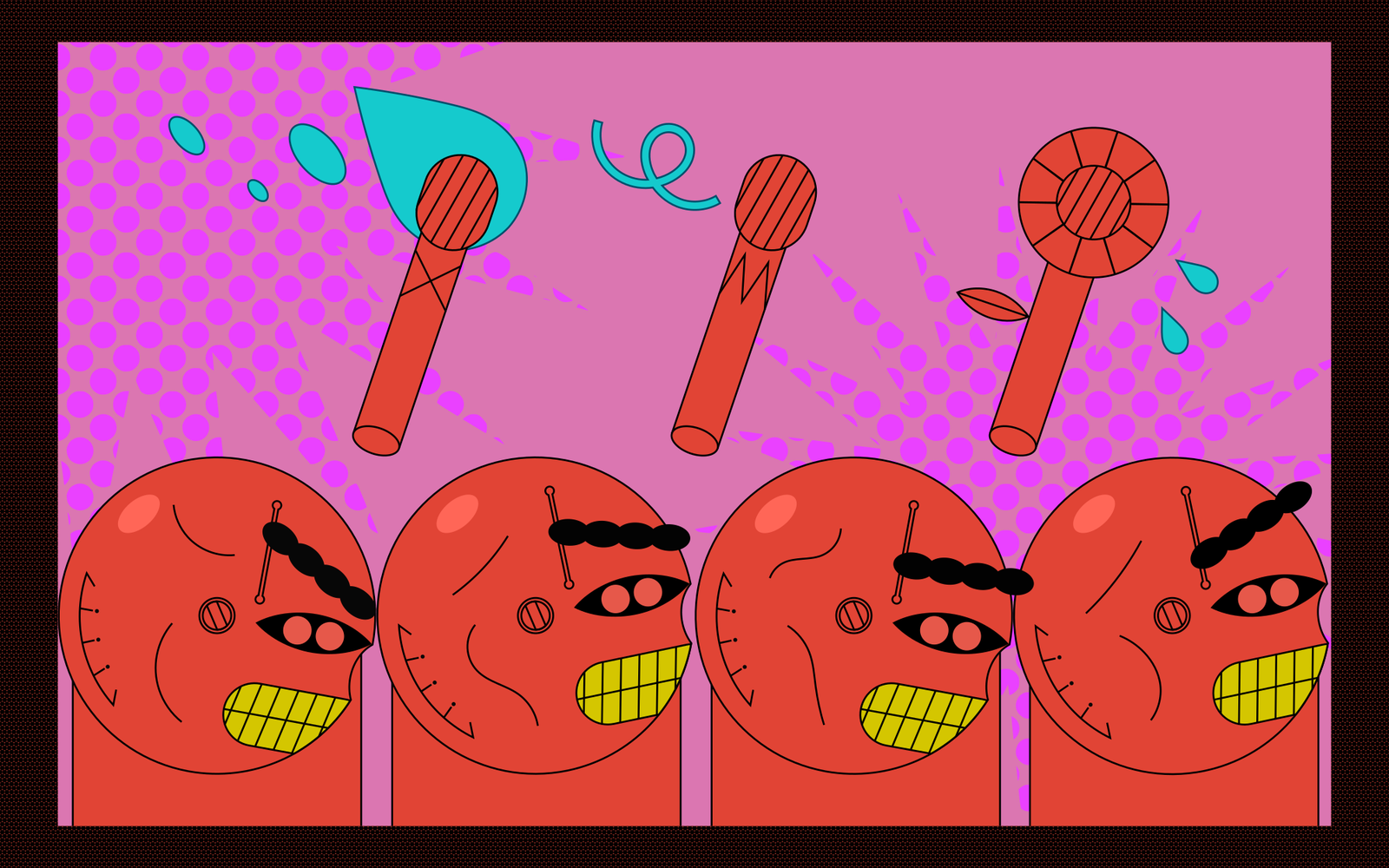
За неимением же «легитимизированного», явного внешнего врага подобные связи постепенно ослабевают, дистанция увеличивается. Так, гражданские войны случаются в те периоды существования государства, когда внешние враги государству не угрожают — стоит вспомнить, к примеру, противостояние патрициев и плебеев в тот период римской республики, когда военная мощь ее достигла достаточно высокого уровня, чтобы какое-то время не опасаться вторжений извне. Неустойчивое сообщество всегда выискивает средство для восстановления порядка, сосредотачиваясь на одной фигуре или одном — дегуманизированном — образе, сулящем освобождение от распада.
Процесс виктимизации представляет собой спираль: накопившееся в обществе напряжение ищет выход, обнаруживает «виновного» во всеобщем неблагополучии, виновный подвергается линчеванию, после чего, испытав полуэкстатическое состояние «единства» всех против одного, толпа линчевателей обнаруживает в себе чувство вины и идеализирует свою жертву (канонизирует, обожествляет).
Но что более важно, Жирар описывает и последующие этапы: сообщество, укрепившее социальные связи с помощью совместной разрядки и совместного переживания чувства вины, с радостью совершает ритуалы совместного же «очищения», поклонения мученику — тому, кто еще недавно принимал на себя удар обвинений.
Эта схема: напряжение — коллективное убийство/гонение — коллективное покаяние, в представлении Жирара распространяется на все типы человеческих культур и все формы религиозных верований: начиная от териоморфных культов и культов мертвых, до таких сложных и аналитических религий, как иудаизм и христианство. Таким образом, фигура козла отпущения как такового в системе Жирара не столь важна, как сам процесс отделения «своего» от «чужого».
Так, разграничение между традиционной, «куртуазной» войной с ее кодексами чести, уважительной дистанцией по отношению к врагу и сопернику, и современными нам формами тотальной войны, захватывающей все слои и сферы жизни общества, выбрано Жираром в качестве наилучшего доказательства того, что современная культура, претендуя на отказ от прежних форм враждебности, лишь создает новые — диффузные, менее подконтрольные и пропитывающие все области жизни общества. В этом смысле тотальная война — не только конкретное определение, но и метафора всего состояния постсовременного общества, в котором погоня за образцами и признанием становится все более и более ощутимой — во многом благодаря культу индивидуального «достигаторства», подпитываемого популяризируемыми моделями успешности.
Тотальная война современности и новая солидарность
«Мы вошли в эпоху непредсказуемых проявлений враждебности» — констатирует Жирар. Эта непредсказуемость — прямой результат попыток маскировки миметической агрессии под масками демократических форм разрешения конфликтов, оборачивающихся «гонением прежних гонителей» вместо того, чтобы отказаться от гонительской схемы как таковой. Характерный пример — недоверие к немцам и всему немецкому по окончании Второй мировой войны.
Аналогичного взгляда придерживается Жирар и относительно экономических моделей, где коммерция предстает своего рода маскировкой насилия и «вялотекущей войной». Курс на осознанное потребление, сменивший прежние модели обращения с информацией и товарами, затрагивает и практики тела. «Тело как объект желания», «освобожденное» тело, о котором писал, в частности, Жан Бодрийяр, — объект репрессивной заботы и болезненного интереса, — уступает место «позитивной» модели отношения с телом, которое становится пространством для обширного набора практик, в том числе игровых. Возможности, открывающиеся с растущей доступностью визуальных материалов в сети, регулируют форматы цитирования: существование специализированных форумов и сообществ в социальных сетях, «досок» с набором визуальных ассоциативных рядов в Pinterest— всё это наряду с сознательной политикой интернет-изданий «рассеивает» классическое понимание «эталона» как образца, с которым вступают в заочное соревнование. Однако, по Жирару, подобная «локализация», исчезновение всеобщих моделей для подражания — не панацея от миметических лихорадок вроде поветрий расстройств пищевого поведения.
Жирар, понимая современную нам эпоху как эпоху диффузного жертвенного кризиса, обращает внимание на то, что попытки разоблачения гонительского механизма, предпринимаемые обществом, не приводят к желаемому результату — искоренению миметического насилия. Утрачивая право на насилие легитимное, общество канализирует агрессию хаотично, спорадически.
В последней своей крупной работе «Завершить Клаузевица» Жирар вводит понятие, позволяющее пересмотреть схему миметических отношений, — «положительная неразличимость». Устранение различий в рамках «положительной неразличимости» не является реакцией инфицированной насилием толпы на внешнюю опасность, напротив — общество созидает новые формы солидарности, фундированные не единством всех против одного, но единством всех со всеми.
Состояние положительной неразличимости становится прямым следствием новой формы политической рациональности — и создает условия для новой эсхатологии, в которой человечеству удается преодолеть греховную природу заразительности насилия.
«Сообщество», сформированное через ощущение идентичности, уступает место «обществу», где устраняются различия, порождающие нездоровую конкуренцию, гонку вооружений и ксенофобию.
В «Завершить Клаузевица» Жирар делится со своим собеседником и соавтором Бенуа Шантром простой, но емкой метафорой, рассуждая в излюбленной форме о социальных процессах в терминах медицинских: «Мы можем изобретать вакцины, но при условии, что будем уметь ими делиться, что они будут доступны не только богатым странам и что государственные границы отныне станут столь же легко проницаемыми, что и границы наших различий».
В пессимистичной по своей сути теории Жирара под конец исследовательского пути мыслителя появляется этот проблеск надежды. Для человечества, от эпохи к эпохе блуждающего по порочному кругу поиска новых и новых виновных, выход из миметического алгоритма возможен как на уровне индивидуального выбора, так и на уровне коллективов, но условием для такого выхода становятся отказ от конкурентной логики, от конструирования образа врага и от риторики обвинения.