Первые два романа Алексея Поляринова «Центр тяжести» (2018) и «Риф» (2020) стали бестселлерами и вошли в лонг- и шорт-листы премий имени братьев Стругацких, «Большая книга», «НОС» и «Нацбест». А в 2024 году автор представил новую книгу — «Кадавры» — об альтернативной России, где тридцать лет назад произошла катастрофа, оставившая застывшие фигуры мертвых детей по всей стране.
Но может ли Поляринов, переводчик культовых американских постмодернистов и один из самых известных и многообещающих молодых российских писателей, стать надеждой отечественной словесности? Вряд ли — считает критик Андрей Темнов и объясняет, почему Поляринов как писатель слаб, какие стилистические огрехи допускает, как оценивать молодых авторов по «правилу трех книг» и почему из нового поколения до сих пор не вышло ни одного по-настоящему крупного мастера.
Дисклеймер от критика. Этот текст не преследует цели оскорбить или унизить автора. Интенция в ином: принадлежа к писательскому поколению Поляринова, я пытаюсь разобраться, что с этим поколением не так и почему из него до сих пор не вышло ни одного по-настоящему крупного мастера.
Идущие из Рассвета — о переводах Поляринова
Алексей Поляринов отличный переводчик и крепкий эссеист, но как писатель — слаб. Не ужасен, не бездарен — слаб. И сейчас я объясню почему.
Как и многие, впервые я услышал об Алексее Поляринове на рубеже 2017–2018 годов, когда до читающих кругов дошла благая весть: перевод «Бесконечной шутки» Дэвида Фостера Уоллеса не просто в работе, но и близок к завершению. Выхода романа, впервые опубликованного далеким февралем 1996 года, в России ждали больше 20 лет — думаю, завсегдатаи еще не забыли шуткосерьезные паблики, где всенощные эти бдения превратились в отдельный вид сетевого искусства.
Ажиотаж вокруг перевода приятно удивлял, ведь речь шла о действительно сложном постпостмодернистском (или, если угодно, метамодернистском) тексте, стилистические и фабульные лабиринты коего были предельно далеки от стандартного ландшафта современной русскоязычной литературы, где тон задавали писатели советской еще выделки. «Бесконечная шутка» являла едва ли не революцию — что-то предельно свежее, отворяющее форточки в бескрайние миры доселе неведомой заокеанской классики последних 50–70 лет.
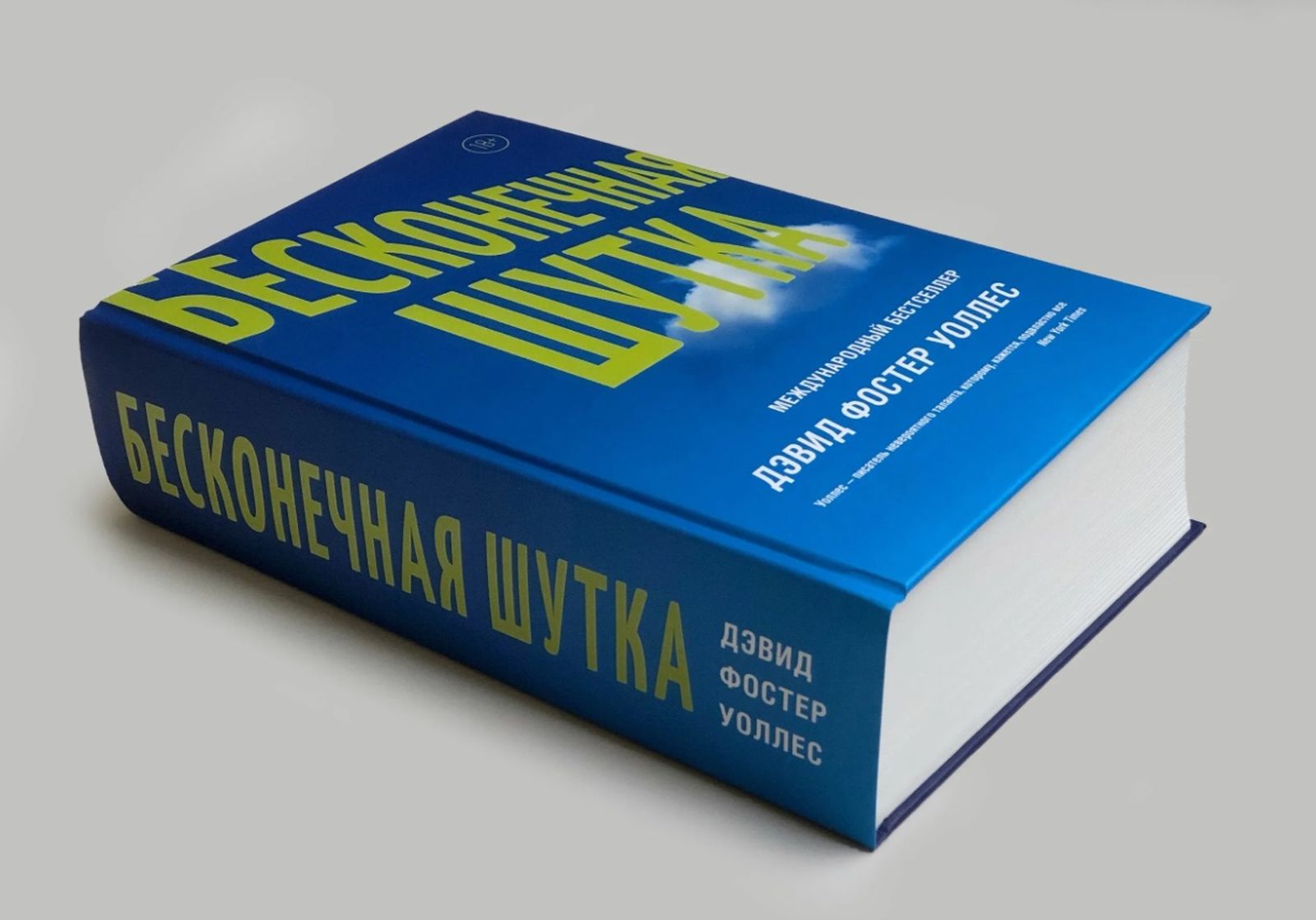
И — о чудо! — перевод не подкачал. Совместная работа Алексея Поляринова и Сергея Карпова оказалась конгениальна оригиналу, изобилуя сленгом, авторскими неологизмами, сниженной лексикой, нешаблонной метафорикой. Советская переводческая школа имени Риты Райт-Ковалевой была низвергнута — убедительно и бесповоротно, на материале одного из главных американских романов конца века.
Публикация «Бесконечной шутки» знаменовала важный перелом в переводной литературе, показав, что в России народилась численно небольшая, но активная читательская прослойка, готовая воспринимать тексты любой сложности и глубины. С тех пор поток таких переводов уже не ослабевал.
Начиная с 2018 года были переведены:
- Избранная эссеистика Д. Ф. Уоллеса и роман Antkind Чарли Кауфмана (дуэт Поляринова и Карпова);
- Два сборника новеллистки Д. Ф. Уоллеса (Сергей Карпов) и его же ранний роман «Метла системы» (Николай Караев);
- «Плотницкая готика» Уильяма Гэддиса (Сергей Карпов);
- «Иерусалим» Алана Мура (Сергей Карпов);
- «Потерянный альбом» Эвана Дара (Сергей Карпов);
- «Дитя Божье» Кормака Маккарти (Андрей Баннов) и его же «Саттри» (Максим Немцов);
- «Тоннель» Уильяма Гэсса (Максим Немцов);
- «Людоед» Джона Хоукса (Максим Немцов);
- «Сигареты» Хэрри Мэтьюз (Максим Немцов);
- «Творческий отпуск» Джона Барта (Максим Немцов) и его же «Торговец дурманом» (Алексей Смирнов);
- «Плюс» Джозефа Макэлроя (Максим Нестелеев и Андрей Мирошниченко);
- «Море вверху, солнце внизу» Джорджа Салиса (Максим Нестелеев и Андрей Мирошниченко);
- «Эпоха провода и струны» Бена Маркуса (Олег Лунев-Коробский);
- «Уильям Гэддис: Искусство романа» Стивена Мура (Джамшед Авазов);
- «Календарь сожалений» Лэнса Олсена (Григорий Шокин).
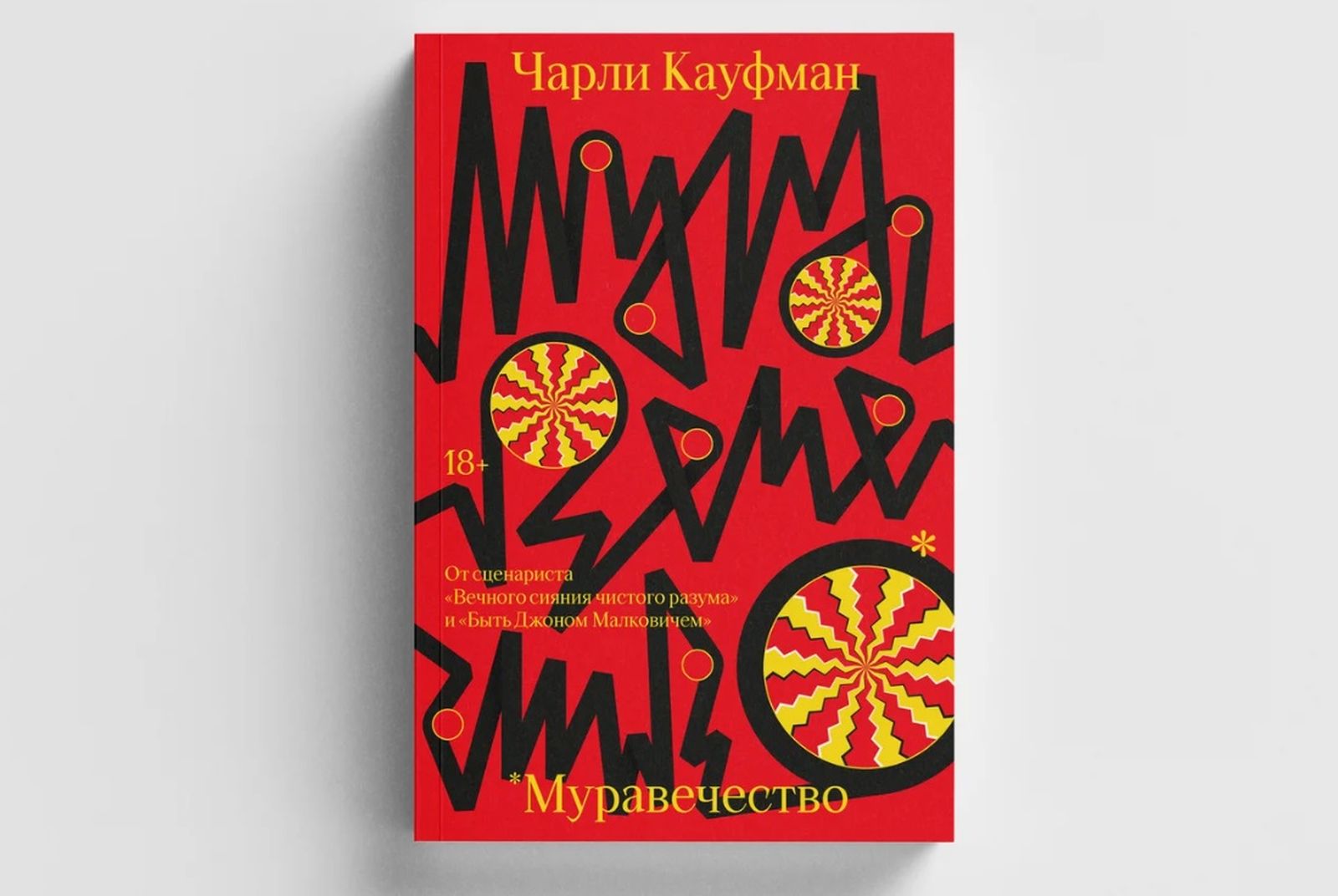
На мой вкус, главные корифеи новой переводческой волны — Максим Немцов и Сергей Карпов — своим уровнем (и работоспособностью) несколько затмевают остальных причастных, включая Алексея Поляринова, однако нельзя не признать, что многочисленные интервью, статьи и публичные выступления Поляринова в 2017–2019 годах стали тем ветром, который эту волну и поднял, дав ей необходимое медийное наполнение.
A Star Is Born (о романах «Центр тяжести» и «Риф»)
Перевод «Бесконечной шутки» увидел свет зимой 2018/2019, а параллельно, в течение нескольких месяцев, вышли две самостийные книги автора: роман «Центр тяжести» и сборник эссеистики «Почти два килограмма слов».
Выстрелив сразу из нескольких стволов, Поляринов быстро превратился в локальную звезду литературного мира и укрепился в статусе одного из самых многообещающих молодых писателей.
Учтем, что в те годы о других заметных авторах этой генерации — Евгении Некрасовой и Оксане Васякиной — слышали единицы, а большинство птенцов издательских гнезд «Альпины» и «АСТМО» еще даже не вылупились. Мое писательское поколение — первое подлинно постсоветское, зачатое в годы агонии, между смертью Брежнева и крахом Союза, — вышло на литературную сцену как раз к концу десятых, и Алексей Поляринов долгое время оставался самым известным его представителем.
Внушительное publicity и хорошие тиражи сопровождали каждую новую вещь Поляринова — с чем Алексея, конечно, можно только поздравить.
Начиная знакомство с текстами Поляринова сразу после «Бесконечной шутки», я ждал многого. Мне хотелось думать, что в России наконец-то появился если не свой Томас Пинчон, то как минимум свой Дон Делилло; автор, наследующий не позднесоветской, но западной литературной традиции второй половины XX века, освоивший тропы и тропки -измов всех видов, способный воплотить передовые практики на русском материале, как это делали модернисты первой волны, в диапазоне от Андрея Белого до Владимира Набокова.
Роман «Центр тяжести» мои надежды не подтвердил и не опроверг — он их подогрел. Это была очень неровная, сбивчивая книга: начинаясь с интригующей, в стиле Кинга, новеллы о детстве и поисках таинственного «третьего озера», в середине она резко меняла направление и — через грубый, но впечатляющий нарративный кувырок — превращалась в нечто среднее между саркастической пародией на эпоху зрелого путинизма (шутовской президент Боткин в наличии) и гротескной антиутопией à la Сорокин.
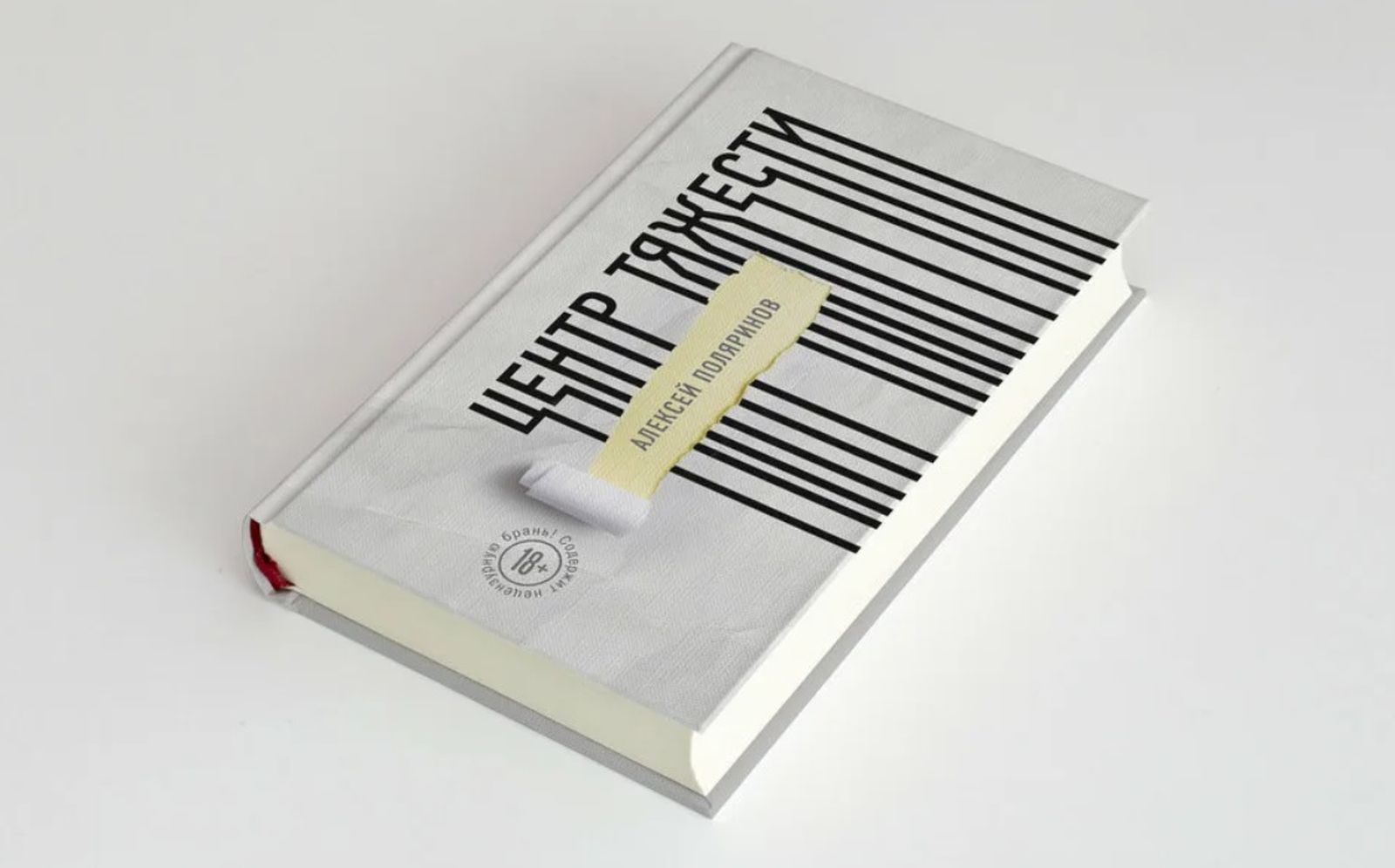
Поляринов играл с читательскими ожиданиями, не боялся экспериментировать с жанровыми клише и языковыми портретами персонажей. Это было в меру несамостоятельно относительно американского постмодернизма и умеренно интересно в контексте засилья русской (соц)реалистической прозы тех лет.
Вторая половина романа заметно уступала первой, а «киберпанковский» финал огорчал натужностью, однако по итогам бдений книга скорее удалась; глядя на нее из дня сегодняшнего, можно уверено сказать, что главы про «третье озеро» — лучшее из написанного Поляриновым.
Здесь же стоит коротко остановиться на эссеистике автора: сборниках «Почти два килограмма слов» и «Ночная смена».
Их содержательная часть не открывает новых горизонтов для взыскательной публики, сводясь к пересказу читательского опыта, известных фактов и апокрифов литературного мира. Вместе с тем эссе гладко и легко написаны, в них много юмора, эмпатии, точных наблюдений — вполне западная, современная подача, равно далекая и от академического занудства, и от дилетантских измышлений. Крепкий, уверенный в себе non-fiction, рассчитанный на широкую аудиторию.
Популяризаторская функция такой эссеистики превосходит литературоведческую, но это ни в коем случае не упрек. Ровно наоборот: ироничный разговорный стиль Поляринова весьма притягателен и способен подвигнуть на чтение сложных текстов даже тех из нас, кто редко покидает уютные стеллажи книг в мягких обложках.

С учетом сказанного, совершенно не удивляет, что ко времени анонса романа «Риф» в 2020 году известность Поляринова вышла за рамки чисто литературных кругов. Он стал восприниматься как «большой» писатель, способный тягаться с мэтрами и претендующий на премиальные лавры.
Презентации «Рифа» шли по всей стране, собирая камерные, но залы, а сам роман без видимых усилий взобрался на верхние строчки чартов, став одной из громких новинок сезона.
Однако именно тогда, читая «Риф» среди общей шумихи, я впервые усомнился в писательских способностях Поляринова.
Передо мной был любопытно задуманный, геометрически выверенный текст — настолько, что все швы и склейки были слишком заметны опытному взору, выдавая нарочитость замысла. Поверх этого предельно оголенного каркаса были натянуты три сюжетные линии, каждая из которых должна была уточнять и дополнять соседние. Должна. Была.
На деле здешняя история сочно и обстоятельно запрягала, рисуя полярный городок Сулим с его причудливой северной мистикой и тягостным кровавым наследием, затем быстро разгонялась куда менее вразумительными новеллами про травмированных девушек с хорошим образованием и нехорошей тягой к сектам, а в конце разбивалась о скороспелый, будто дописанный на коленке финал, чья опустошающая предсказуемость обнаруживала капитуляцию автора перед собственным материалом.
И если в эссеистике легкий разговорный стиль Поляринова был актуален и оправдан, то в метафорическом романе про Бремя Прошлого и тяжелые психические обсессии он выглядел по меньшей мере странно.
Плоский язык, засилье просторечий, не всегда уместного жаргона и нескладных сравнений были простительны сами по себе, но вкупе с дутым финалом и общей «сделанностью» текста не позволяли оценить «Риф» выше скромного «удовлетворительно».
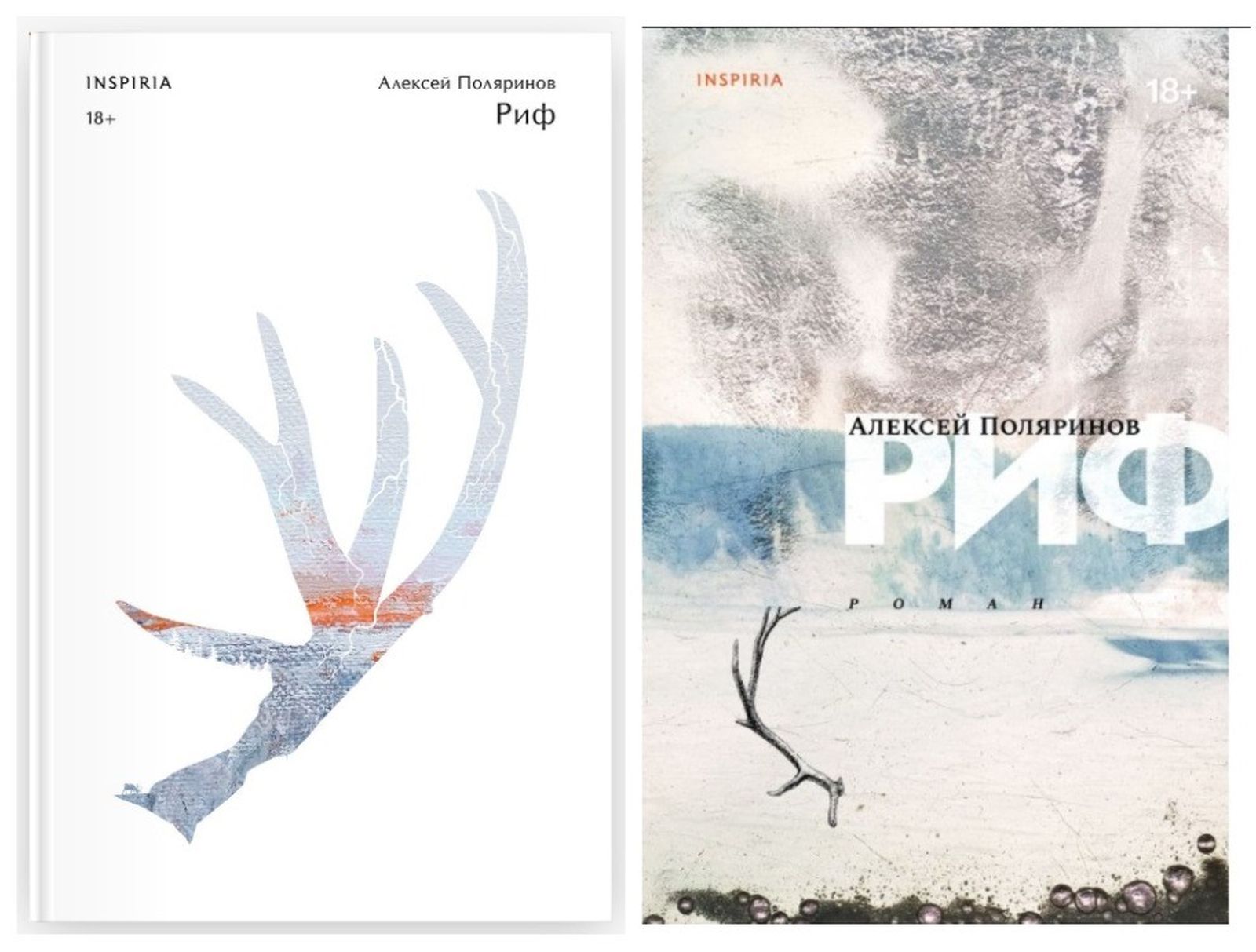
Впрочем, то был лишь второй роман Поляринова, и все замечания в его адрес можно было списать на мой литературный снобизм и нежелание проникнуться идеями автора. Так я и поступил, задвинув «Риф» на полку и решив дождаться следующей книги, чтобы вынести окончательный вердикт лишь по ее прочтении. С тех пор минуло четыре непростых года, Поляринов выпустил новый роман, а значит — время пришло.
Сadaver
Говоря о молодых писателях, я всегда руководствуюсь Правилом трех книг™:
- В первой начинающий автор может совершать какие угодно выкрутасы, тонуть в излишествах и неточностях, может книгу даже не заканчивать, бросив на полуслове, — главное, чтобы в ней чувствовались талант, амбиции, замах.
Вторая книга (если мы берем за образчик строгого к себе писателя) — это почти всегда работа над ошибками и поиск стиля, темы, языка. Вторая книга спотыкается в частностях, но в ней, как правило, ясно угадываются индивидуальная манера и энергетический заряд всего дальнейшего творчества.
Третья книга — явление состоявшегося мастера, демонстрация силы, утверждение собственной поэтики и стандартов качества, ниже которых автор впредь уже не опускается. Именно третьи книги часто становятся эталонными, культовыми.
Для Алексея Поляринова третьей художественной книгой стал роман «Кадавры», поэтому я решил судить ее по гамбургскому счету, без реверансов и скидок на неопытность.
Если ты хороший писатель, к третьей книге детские болячки уже преодолены, если же нет… Литература редко дает четвертые шансы — в противном случае она едва ли хороша.
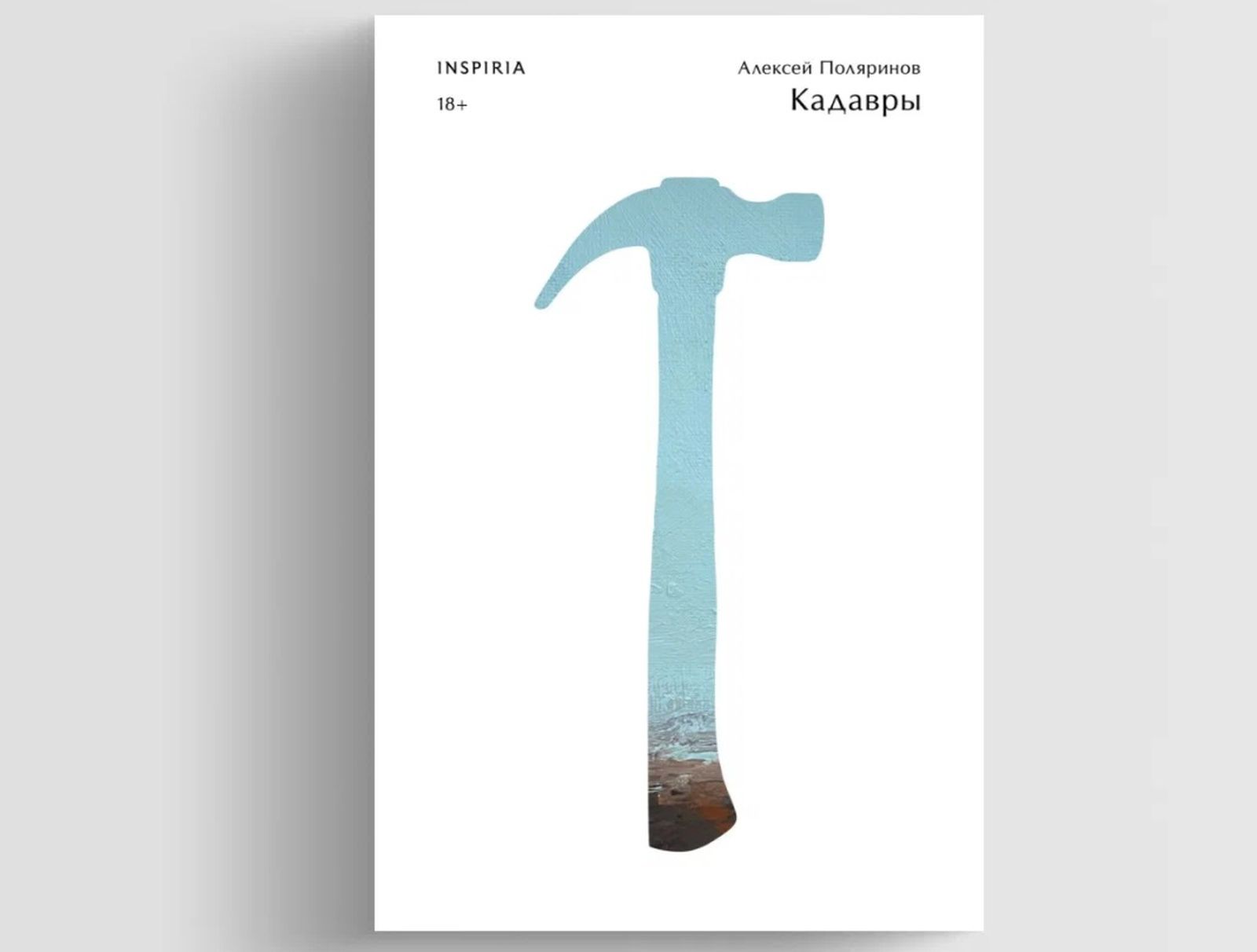
Официальная издательская аннотация гласит:
«События романа разворачиваются в мире, где тридцать лет назад произошла катастрофа и по всей стране возникли кадавры — застывшие фигуры мертвых детей. Главные герои Матвей и Даша отправляются в экспедицию по югу страны, чтобы изучить загадочные аномалии. Во время путешествия они обнаруживают, как присутствие мертвых изменило быт живых и как живые привыкли делить пространство с мертвыми».
Расширить это скупое описание вроде и нечем — текст Поляринова удивительно точно следует аннотации, мало что добавляя от себя. Пришествие мертвых детей и сопутствующих им «выбросов соли» — сквозная метафора романа, повод рассказать (называя не называя) и о репрессиях, и о войне, и об эмиграции, и о коллективной вине, и о принятии катастрофы. Спору нет — метафора эффектна, находчива, особенно если помнить про книжную цензуру и проистекающую из этого необходимость прибегать к эзоповым практикам.
Беда «Кадавров», однако, в том, что кроме заглавной метафоры в романе нет почти ничего законченного, самоценного.
У романа беда с лором. Подоплека описываемых событий дана бегло, без какой бы то ни было попытки «в достоверность». С одной стороны, мы имеем списанное со зрелого путинизма жестко-авторитарное российское государство, с другой — это государство почему-то без боя «сдает в аренду» Китаю ключевые южные регионы (включая выходы к Азовскому и Черному морям) и не может совладать со стихийным восстанием в Адыгее. Почему, кстати, земли сданы Китаю, а не Турции? И географически, и геополитически (sic!) это куда более логичный сценарий.
Есть подозрение, что вопросы такого порядка автора не занимали — ему было важнее, чтобы «Объединенная российско-китайская администрация» образовывала аббревиатуру ОРКА. Звучит многозначительно — но зачем, откуда? Ответа нет. Как нет ответа на самый очевидный, напрашивающийся по ходу чтения вопрос: неужели за три десятилетия существования кадавров никто не пробовал их просто выкопать? Зачем все эти взрывы, опыления напалмом и прочие извращения? Или же «мортальные аномалии» пускают корни прямо к ядру земли? No answers.
Альтернативная история — уважаемый и легитимный жанр, однако «Кадавры» к нему не относятся, увы.

У романа беда со структурой. При мизерном объеме в 280 страниц (отпечатанных далеко не самым мелким кеглем) книга вмещает впечатляющие объемы контента. Примерно треть занимает разбросанная по нескольким главам предыстория героев; еще треть — роуд-муви сквозь обезболенный юг России; оставшееся пространство отдано под тот самый плохо прописанный лор, шаржи на Сорокина/Пелевина/Быкова и узнаваемые заимствования из всего подряд, от каноничных текстов известных писателей до антиутопических игровых вселенных Fallout, The Last of Us, Cyberpunk 2077.
В наличии отсылок и пасхалок нет ничего постыдного — этим балуются все, даже великие.
Однако у великих цитаты функциональны, они подвергаются ревизии, переворачиванию (часто скрытому, ироничному), создавая самобытную, ни на что не похожую вселенную авторского текста.
У Поляринова все куда проще: он берет (возможно, даже неосознанно) яркие фишки из книг и поп-культуры, прилаживая их к своему миру как есть, вместе с торчащими проводами оригиналов. Результат предсказуем: вторсырье.
И если в «Рифе» архитектоника текста была хорошо видна, но хотя бы радовала глаз четкостью линий и симметрией, то в «Кадаврах» история пестрит, как пазл, куда досыпали чужеродных блестяшек, забыв про основной рисунок.
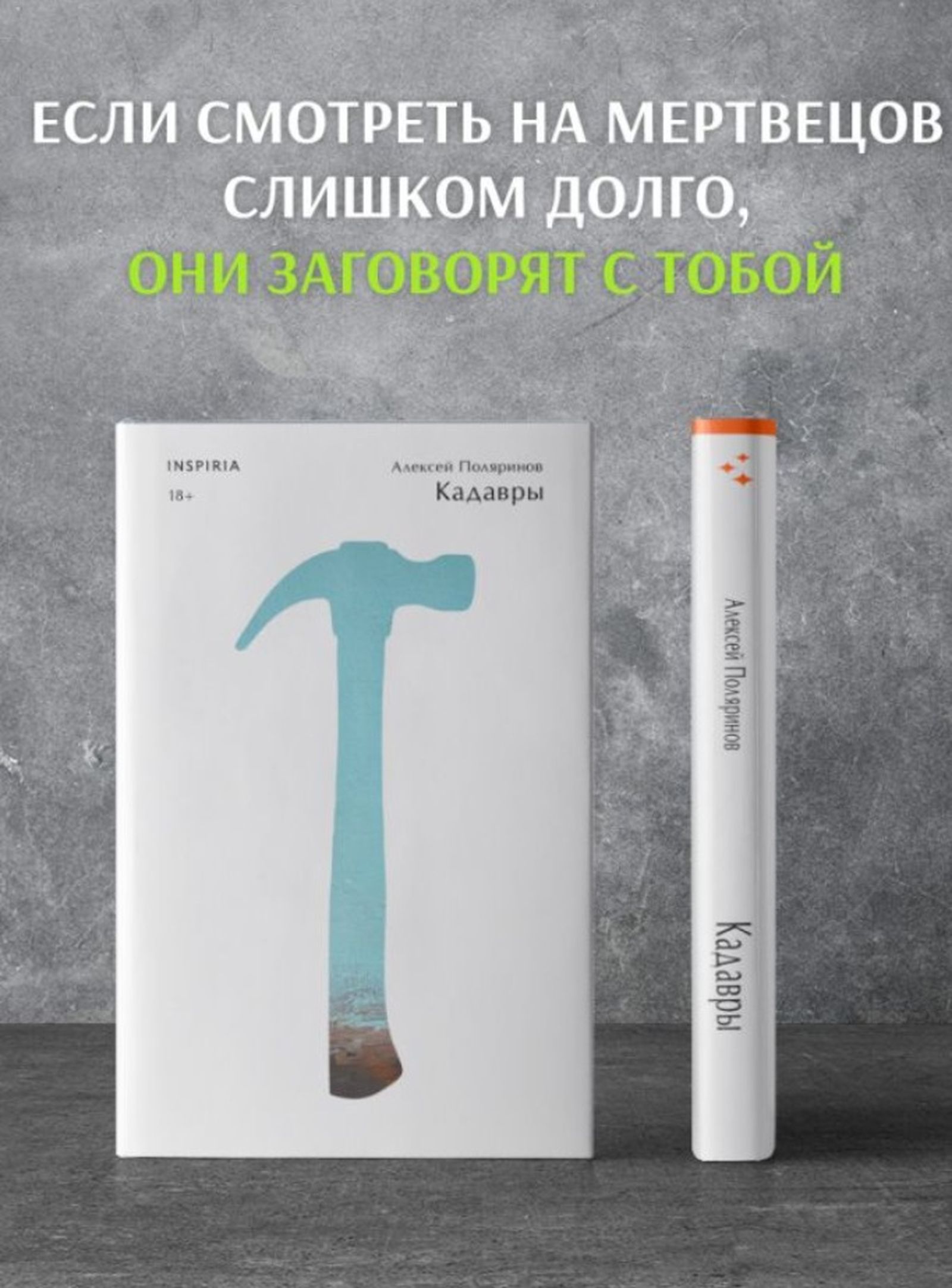
У романа беда с сюжетом. Поляринов создает коллаж, где каждый штрих должен обогащать панораму свыкнувшейся с Катастрофой страны, но в этом коллаже слишком много запчастей и слишком мало клея. Вставным новеллам не хватает внутренней драматургии, связности, взаимных перекличек — выкинь любую, и сюжет ничего не потеряет.
Так, в какой-то момент из повествования искусственно выключают фиксера-Матвея и заменяют на фиксера-Мурата, который нужен только затем, чтобы рассказать про восстание адыгейских ополченцев и Третью нечеченскую на Кавказе. Мурат навсегда исчезнет из романа через пять страниц, а тема с сепаратистами сходит на нет через пятнадцать — никак не повлияв ни на героев, ни на сюжет. Она просто есть, как чемодан без ручки.
Другой пример. Во время охоты за кадаврами к героям подсаживается «похожий на Христа» автостопщик, едущий в коммуну под Краснодаром. Автостопщик выходит на блокпосте, а через несколько глав появляется вновь, когда герои — внезапно — оказываются у порога той самой коммуны. Читатель думает: вау, пазл начинает складываться, сейчас мне покажут что-то важное. Но нет: и коммунары-сектанты, и похожий на Иисуса парень исчезают так же, как появились, — без следа, смысла и ценности для истории.
Есть и более мелкие, но не менее выразительные курьезы. В одной из мини-новелл Матвея задерживают, долго допрашивают, затем отпускают. Все это время Даша ждет брата в машине, перебирая возможные причины задержания. А причина — в карабине, который Матвей возит в багажнике. Казалось бы, такое приключение должно запомниться надолго, став чем-то вроде семейной байки. Однако через несколько дней, когда брат решает пульнуть из карабина по бутылкам, выясняется — Даша уже «и забыла, что Матвей всюду таскает его с собой». И, разумеется, чеховский этот карабин так и не выстрелит: его вешают на стену в первых главах, несколько раз упоминают по ходу действия, а в конце… Ничего. Деталь ради детали.

Ситуацию дополнительно осложняют скачки хронологии. В этом очень небольшом романе, который прочитывается за пару вечеров, какое-то неприличное число флешбэков, отступлений и метаний от одной временной линии к другой.
Из трех основных компонентов (лор, прошлое героев, роуд-муви) лучше всего прописана именно личная предыстория брата и сестры, но из-за дозированной подачи и постоянных смещений нарративного фокуса эффект погружения смазывается, а сопереживание героям вытесняет желание освежить содержание «предыдущих серий».
Для подобных модернистских трюков роману критически не хватает объема и твердого сюжетного стержня — без него история рассыпается, словно карточный домик.
К сожалению, сюжет как таковой Поляринова интересует мало. Загадка кадавров, экологическая катастрофа, репрессии, война — лишь фон для разговора о фрустрации и травмах главных героев (а через них, очевидно, об этом же, но в масштабе всего российского общества). Желание понятное, и в нем автор последователен: травмирующий опыт описан страшно и достоверно. В таких эпизодах письмо Поляринова вдруг обретает зоркость, глубину — и это справедливо для всех его романов начиная с «Центра тяжести», где детская линия была самой выверенной и чувственной.
Иное дело, что этой в своей основе терапевтической литературе по большому счету не нужен постапокалиптический сеттинг, как не нужна запутанная, но банальная история секты в «Рифе» и надуманный этюд с возведением Стены между Россией и Европой в «Центре тяжести».

Расчистив тексты Поляринова от жанровых нагромождений и публицистических аналогий, мы получим трилогию о детстве и детских же травмах, имеющих, впрочем, отнюдь не детские последствия.
Быть может, стоило написать не три проходных романа, а один, но исповедально-личный — про семью, поколение, ужас взросления?
Лучше всего терапевтическая сущность «Кадавров» раскрывается в последних главах, где сюжетная интрига торопливо сметается открытым финалом, зато Даша получает возможность в прямом смысле «выговорить» травмы на диктофон, сопроводив спич детальным прояснением собственных реакций. Поведенческие аберрации Матвея препарированы с аналогичным тщанием, как на сеансе у профильного специалиста. Закрыв книгу, невольно задаешься вопросом: а что это было — мрачная притча о судьбах России или курс по введению в прикладную психологию на Яндекс.Практикуме?
Важно заметить, что все перечисленные огрехи в разных соотношениях и пропорциях встречаются во многих (слишком многих) книгах авторов и авторок моего поколения, позволяя говорить о некоей прискорбной тенденции — условная «молодежь» пишет много, охотно, часто, но само по себе, в отрыве от фестивалей и тусовок, это писательство вызывает скорее недоумение, чем восхищение.
Главный же грех конкретных «Кадавров» — даже не в сюжетной и структурной невнятности, он — в языке.
Минутка литературного редактора
Разберем на примерах:
№ 1
«Был уже вечер, в небе висели драматичные лиловые облака, но жара не спадала, сперва замигал красным индикатор заряда батареи, а затем „Самурай“ и вовсе заглох и застыл».
Могут ли облака быть «драматичными»? Спорно, но допустим. Основная проблема здесь в ином: через запятую даны три отдельных, не связанных по смыслу предложения. Для усвоения текст приходится перечитывать.
Исправленный вариант:
«Был уже вечер, но жара не спадала. В небе висели тревожно лиловеющие облака. Вдруг замигал красный индикатор заряда батареи — „Самурай“ заглох и встал».
№ 2
«Ближайший населенный пункт — поселок Рассвет; местные про кадавра знают, но им плевать — даже тропинки нет, никто сюда не ходит.
— Ну и туфта, — подал голос Матвей. Он даже спускаться не стал, сидел на корточках на холме. — Пойдем отсюда, сейчас самая духота начнется».
Дважды «на», «не» и «даже» на пространстве текста длинною в четыре книжные строки. «Сидел на корточках на холме…» — слушая безотрадный плач своего редактора.
Исправленный вариант:
«Ближайший населенный пункт — поселок Рассвет. Местные про кадавра, конечно, знают, но им плевать — даже тропинки нет.
— Ну и туфта, — подал голос Матвей; он не стал спускаться с холма и сидел на корточках, глядя вниз. — Пойдем отсюда, сейчас самая духота начнется».
№ 3
«Он шагал к молотилке, продолжая плести кружева матюков в адрес Димки, но вдруг осекся и замер, потому что увидел, что именно повредило машину и погнуло ножи».
Не уверен, что матюки можно плести как кружево, но, опять же, — допустим. Чего точно делать нельзя, так это плести кружева в чей-то адрес. Классический пример ошибочного употребления определения.
Исправленный вариант:
«Он шагал к молотилке, осыпая Димку градом (как вариант — шрапнелью) матюков, но вдруг осекся и замер, увидев, что именно повредило машину и погнуло ножи».
№ 4
«На словах кадавр — необъяснимый феномен; стоящий в перелеске труп, неподвижный и бледный, усохший, с впалыми щеками. На деле — издалека он похож на пенек, в сумерках его толком и не видно. И трава — высокая, почти по грудь, из-за нее разглядеть его еще сложнее».
Формально — ошибок нет, но звучит криво. Неудачные сочетания прилагательных и наречий, мешанина местоимений. Чтобы понять, кто там и где стоял, текст вновь приходится перечитывать.
Исправленный вариант:
«На словах кадавр — стоящий в перелеске труп, недвижный, бледный, усохший, с впалыми щеками. Необъяснимый феномен. В реальности — сама обыденность. Издалека он похож на пенек — в сумерках толком и не разглядишь, особенно если смотреть из-за высокой, почти по грудь, травы».
Характерно, что в общем потоке косноязычия нет-нет да и попадаются жемчужины действительно классных оборотов:
«Свинюк сидел на лавочке, широкомордый, белобрысый, рыхлый, опухший, весь в складках, похожий на сбежавшее из кастрюли тесто».
«Но иногда бывало так: она смотрела на Матвея, и сквозь ее сердце, сквозь грудную клетку, грохоча, как поезд вагонами, неслась злоба, тяжелая и оглушительная».
То есть стиль романа небезнадежен — в нем есть за что зацепиться, от чего оттолкнуться, однако эта столь необходимая ему отладка проведена не была, в результате чего печатный текст превращается в коллекцию непреднамеренных каламбуров.

Вот такие «Кадавры». Я привел четыре примера, но мог бы — двадцать четыре. Ошибки и корявости повторяются, они однообразны, типичны. Это говорит о том, что сам автор их не видит и что литературный редактор к тексту не прикасался вообще. «Риф» написан в сходно-неуклюжей манере. Тексты такого качества ожидаешь увидеть от студента второго-третьего курсов журфака, а не от автора пяти книг.
Здесь, конечно, возникают закономерные вопросы — не только к Поляринову, но и к издательству Inspiria. Исходный текст может быть слабым и сырым, но косяки вроде посылаемых в чей-то адрес матерных кружев должны вычищаться из него автоматом, на этапе подготовки к печати — оставлять их нетронутыми просто безграмотно.
Разочаровывает и цеховая критика: получив крайне хвалебную прессу, что «Кадавры», что «Риф» были сходу включены во все тематические «топы» и «рейтинги книжных блогеров».
«Риф», например, удостоился короткого списка «Большой книги», соседствуя с «Филэллином» Леонида Юзефовича — текстом принципиально иного писательского уровня.
На мой взгляд, столь щедрые авансы со стороны профессионального сообщества оказывают медвежью услугу как русской литературе в целом, так и литератору Поляринову в частности, — снижая допустимую планку качества премиальных текстов и создавая атмосферу «успешности» вокруг книг, которые — будем честны — этого не вполне заслуживают.

Last but Not Least
Русский литературный язык имеет трехсотлетнюю традицию; он разнообразен, вариативен, богат, но одновременно — инертен, архаичен, косен. Этот язык — не догма. Его можно (и нужно) изменять, подрывать, эпатировать, но чтобы таким заниматься, его сперва нужно освоить — выполнить, так сказать, домашнее задание.
Увы, но как раз с матчастью у многих авторов моего поколения наблюдаются выраженные проблемы; создается впечатление, что они пришли в литературу прямиком из мессенджеров и соцсетей, минуя азы: внимательное чтение классики, попытки ей подражать, овладение стилем через написание коротких рассказов (а не романов по 300–500 страниц). Из диагноза есть исключения, но их — по пальцам одной руки.
И ведь не сказать, что эти авторы кругом бесталанны: в текстах того же Поляринова видны идеи, мысль, он пробует заигрывать с формой, аллюзиями, широкими метафорами. Но язык, сюжет, композиция… С этим надо что-то делать. Варианта два: продолжать писать на текущем (удручающе невысоком) уровне, надеясь, что со временен оно как-нибудь само, эмпирически, через пот и слезы, или же найти чуткого редактора, который и поправит, и укажет на ошибки, и посоветует, как этих ученических, в общем-то, ляпов избегать впредь.
Пока же имеем то, что имеем. Не лишенный отдельных достоинств, последний роман Поляринова напоминает заурядную англоязычную беллетристику в любительском фан-переводе или — что еще точнее — записанный «прямо из головы» авторский текст, в лучшем случае тянущий на черновик будущей книги. Русского Пинчона и Делилло из Поляринова не получилось — сегодня перед нами лишь бледная тень Стивена Кинга.
Больше статей о современных писателях:
68 осколков Владимира Сорокина: эксперименты с Неосредневековьем, карнавально-лубочная эстетика и каннибализм
Союз меча и орала: как зет-поэты объединились для переустройства современной литературы
«Я желаю перлов своему дому». Удачное и неудачное в новой книге Дарьи Серенко












